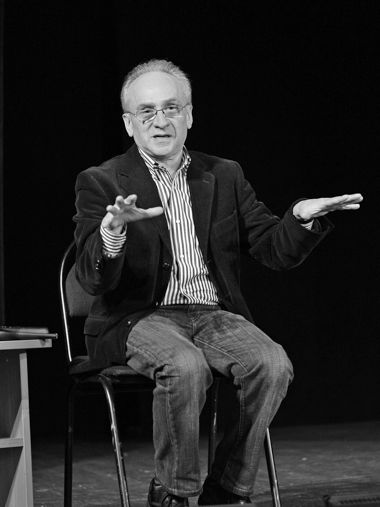В тот момент, когда состоялся наш разговорс известным театроведом и ректором Школы-студии МХАТ, было ничего не известно о его скорой добровольной отставке. Поэтому интервью получилось не итоговое, а наоборот — полное надежд. Театр. не уверен, что новая жизнь легендарного вуза оправдает эти надежды, но не сомневается, что один из лучших ректоров страны, сбросив груз административной работы, вернется к театроведческим штудиям. Пусть не за Школу-студию, но за отечественную науку о театре в этом случае можно будет только порадоваться.
МД: Как вам кажется, есть какая-то специфика у Школы-студии МХАТ в «разливанном море» других театральных институтов?
АС: Специфика заключается в том, что в России все централизовано. И театральное образование тоже с какого-то момента оказалось централизовано. Трудно даже сказать, с какого именно, потому что сама Школа-студия существует с 1943 года, а советский культ Художественного театра начинается еще раньше — в 30-е. И возникшая при Художественном театре школа, конечно же, тоже стала культовой и эталонной. Любой молодой человек, увлекавшийся театром, стремился попасть именно сюда. Я вот даже по себе сужу: почему я в 17 лет из Горького поехал сначала в Школу-студию? Это потом я пошел в «Щуку», где дошел все-таки до второго тура — здесь-то меня на первом срезали… Потому что был культ, каноны. При этом канонизировался самый неинтересный, самый мрачный период в истории Художественного театра.
МД: А эти каноны, они кем были выработаны? Ведь не Станиславским же…
АС: Я бы сказал, что их выработал коллективный разум советской театральной критики. Когда совсем недавно в МХТ праздновали юбилей Станиславского, я, будучи больным и находясь далеко, организовал тем не менее утреннюю сессию, где наши, англо- и франкоязычные режиссеры и артисты должны были поговорить о Станиславском без публики. Собрались почти приватно Тревор Нанн, Роберт Фолс, актриса Наташа Пари, жена Брука, Люк Бонди, Абрахам Ф. Мюррей, Деклан Доннеллан, наш Кирилл Серебренников и т. д. И вот Тревор Нанн говорит: «Вы знаете, когда речь идет об открытии Станиславского, речь идет просто о новом качестве правды». Оно все время меняется: когда мы слушаем Качалова или даже актера 20-летней давности, то поражаемся, как выспренне, как возвышенно он разговаривает, вроде сейчас так уже никто не говорит. Но в его время это считалось нормой, образцом. Это качество правды, которое меняется, собственно, и есть главное открытие Станиславского. Когда говорят «четвертая стена» или «не верю», речь идет только об этом. О доверии к переживанию человека на сцене, к его сценической подлинности.
МД: И при этом неправда на сцене может стать высшей правдой.
АС: Да, конечно. У меня есть любимый пример, имеющий серьезнейшее отношение к пониманию поисков К. С. и к его идеалам театрального образования. Станиславский смотрит прогон в Первой студии. Он, естественно, обучает ее артистов по системе, которой занимается уже много лет. И они играют, как он их учил. Он смотрит и говорит: «Есть одна ужасная ошибка, может быть, это оттого, что я вас так учил, — вы доходите только до порога правды». Но быть правдивым вовсе не является целью актерского искусства. Главная задача актерства заключается в том, чтобы, доходя до этой границы правды, переступать ее, вступать в область лжи или преувеличения, а потом свободно гулять взад и вперед. Вот это и есть настоящий Константин Сергеевич. Почему система не закончена? Он ее и не мог закончить. Вот, например, «физические действия» (мы говорим «метод физических действий», но «метод» — название Кедрова; Станиславский никогда это методом не называл, он просто говорил — «физические действия»). В 36-м году ему показалось, что он открыл новый способ освоения пьесы и роли, который дает актеру возможность сразу же впрыгнуть в существо дела. И все предварительные многолетние наработки он отбросил сразу же. Это типично для любого нормального художника. Кстати, идеал актерской игры у Станиславского очень своеобразный: есть актеры, которые играют замечательно, логично, говорит он, но есть игра, которая вне рамок, вне законов, вне правил — и она оглоушивает! То есть любые сценические законы можно нарушить во имя высшей правды. А система в советском понимании — это что-то железобетонное, завершенное, пугающее. Не учитывающее нового качества правды и новой органики артиста. Тот же Люк Бонди заявляет: «Если это система, то мне в ней нечего делать». Потому что каждый художник к имеющемуся знанию все равно какие-то свои коэффициенты добавляет. Достаточно открыть дневники Олега Борисова — истого ученика Школы Художественного театра начала 50-х годов. Сколько он сочиняет тайно в дневнике «поправок к системе»! Он фразеологию всю меняет, он с футболом ее соединяет, с футбольной аритмией, с щепоткой обязательной шизофрении, он бог знает что делает — и это верный ученик школы. Потом надо же понимать, что весь язык Станиславского, язык человека XIX — начала XX века, нужно переводить как-то на наш язык. Ефремов, например, никогда не произносил слово «переживание», потому что оно у него вызывало отвращение. Переживание — слово, которое ложно уводит в сторону. Олег придумал «проживание». И это слово «покрывает» эстетику «Современника» и вообще очень многого в послесталинском нашем театре.
МД: Мне кажется, однако, что есть еще одна страна, где системе поклоняются столь же истово, как в России. И это не чуждая вам Америка.
АС: Ну нет, для американских школ Станиславский не является чем-то главным. Почти в каждом театральном колледже или на театральном факультете Станиславский изучается как один из источников. Но не единственный. Для них нет сомнения — в отличие от нас, — что это не всеобъемлющая, не универсальная отмычка, что понимание правды меняется, понимание актера меняется. В конце жизни в Лос-Анджелесе Михаил Чехов прочитал лекцию, которую у нас печатают под названием «Пять великих русских режиссеров». Она даже есть в звуковом варианте по-английски. Он говорит о Станиславском, о Вахтангове, о Мейерхольде, о Немировиче-Данченко и о Таирове. Он потрясающе определяет каждого. Дает каждому актерские формулы. Он говорит о них как равный о равных — в тот момент они все уже или умерли, или убиты, или уничтожены. А в конце утверждает, что мы можем спокойно брать что-то у каждого из них, поверх барьеров, даже несмотря на то, что они не любили друг друга и спорили друг с другом. Мне кажется, это очень важно для русской театральной школы — брать у всех. Потому что у нас до сих поресть опасный штамп, когда все сплошь все время кивают на Станиславского. Ведь это ж поразительно. Казалось бы, уже свобода, и можно сказать: «А мы наследуем не Станиславскому, а Вахтангову, который спорил со своим учителем». Причем каждый, кто хоть сколько-нибудь занимался Вахтанговым или тем же Михаилом Чеховым, знает, до какой почти скандальной остроты доходили эти споры. А чего стоит один только разговор Чехова и Станиславского, который отражен в знаменитом письме Чехова из Германии. Он к тому моменту уже покинул Советский Союз, и они встречаются с К. С. в кафе. Чехов пишет своему приятелю: «Вот мы наконец поговорили, часов пять…». Станиславский утверждал, что актер должен идти от себя (это еще, кстати, вопрос, что именно это значит), а Чехов — что «мелка душонка каждого артиста», и если от себя, то он будет эту «мелкую душонку» повторять в каждой роли, поэтому идти можно только от своего воображения, и это и есть дарование.
МД: Эти все рассуждения, по правде говоря, такие дебри. Потому что смотришь на артиста милостью божьей вроде Евстигнеева и думаешь — от себя он идет, не от себя, черт его знает…
АС: Ну да. Я наткнулся недавно на телепрограмму, записанную в конце 70-х. Такая обычная вспоминательная советская программа. Говорили о пьесе Розова «Вечно живые» и о спектакле «Современника», ну, обычная рутина тех лет… Доходит дело до Евстигнеева, который сидит, что-то такое ест и ни на кого не обращает внимания. Он встает. «Ты что играл-то?» — спрашивают его. А он играл прохвоста, который хочет соблазнить даму и с места в карьер, без всякой подготовки, врет ей, заливает байки, а, уходя, произносит: «Я вас люблю… сильно!» И вот встает Евстигнеев, который только что был просто человеком, сидел, что-то жевал, и вдруг он — актер, и он с ходу превращается в этого мерзавца. С такой потрясающей легкостью… Это производит оглушительное впечатление, потому что это само проявление природы актерской. Наверное, Михаил Чехов так играл Хлестакова. Никакая система это закрепить и предсказать не может. С режиссерами, кстати, то же самое. Анатолий Эфрос мне неоднократно рассказывал, как им били по голове методом физических действий, или этюдным методом, который развивала Мария Иосифовна Кнебель, и в ее руках он был открытием. Для кого-то он может быть важен и сейчас. Вот, скажем, Лев Эренбург только этюдным методом и пользуется. А у Эфроса в опубликованных сейчас репетициях «Чайки» я нахожу замечательные вещи. Сначала он работает этюдным методом. Потом проходит довольно большой репетиционный период, и он отбрасывает его и начинает режиссировать, строить сцены. Кто-то из артистов спрашивает: «Анатолий Васильевич, а где же этюды? Мы же в них столько уже наработали». — Он говорит: «Этюды — замечательная вещь, пока я не знаю, что с вами надо делать, это проба; а когда я знаю, мне уже не нужны этюды, я вам и так все покажу». Я, между прочим, видел его показы во время репетиций «Тартюфа» во МХАТе — он мог проиграть целый акт за всех. И наоборот — тем же методом физических действий может вдруг неожиданно, почти интуитивно воспользоваться кто-то из артистов. У Кирилла Серебренникова на курсе был студент. И вот идет этот парень в одиночестве по второму этажу Школы-студии (а мы, надо сказать, везде поставили видеокамеры в целях безопасности) и вдруг ни с того ни с сего с размаху бьет ногой в стенку. И проламывает в ней во-о-т такой кусок. Я его вызываю и говорю: «Тебя ж надо выгонять из Школы, мы же только что ремонт закончили. Почему ты это сделал?» — Он говорит: «Нам велели разозлиться». Ясно, да? Он ногой ударил в стену, чтобы разозлиться. Я его, конечно, простил, поскольку дело идет об актерской психологии, которая со стороны кажется заболеванием. У Чехова есть фраза в каком-то рассказе: «Старик топнул ногой и рассердился». Вот здесь то же самое. Ничего не наживаешь, ничего не наращиваешь — чисто физически заставляешь себя рассердиться. То, чего добиваются долгой работой, иногда можно достичь за одну секунду. Никаких правил тут нет. Никаких.
МД: Означает ли это, что нынешняя Школа-студия — это совершенно открытая система, не присягающая на верность какому-то одному методу или системе?
АС: Именно. Русские театральные школы жили по законам советского монастыря. В Щукинском училище растят кадры для Вахтанговского театра, в Щепкинском — для Малого, в Школе-студии МХАТ — для Художественного. Мне казалось, что это глупость. Когда я стал ректором, я пригласил Константина Райкина, актера совсем другой школы, другого направления. И на протяжении многих лет это был наиболее яркий мастер института, и я жутко сожалею, что после двенадцати лет работы он уходит, решив открыть свою частную школу. Дай ему бог удачи! Потом появился Кама Гинкас. Потом Серебренников — конечно, напряжение было дикое. Какая-то часть Школы до сих не принимает этого.
МД: А в чем проблема-то? Ведь канонов здесь вроде бы больше не существует?
АС: Все равно осталось представление о норме, и Кирилл из него явно вываливался. В совершенно неожиданных вещах. Скажем, он не поставил ни одного спектакля в пространстве маленького итальянского театра Школы-студии. Оно ему не годится. Мы знаем сейчас по многим его работам, что ему просто нужно другое пространство. И, кстати, сейчас вслед за ним почти никто не хочет на этой маленькой сцене играть. Еще говорили, что он сам не окончил театральный вуз. Но если Серебренников и не имел профессионального образования, то, работая педагогом четыре года, он его получил троекратно. Режиссеры, они же как писатели. Никто в мире не имеет литературных институтов, кроме нас. У нас тут была дискуссия во время фестиваля «Театральные школы мира», и ректор одного известного английского колледжа заявил: «Я начал с того, что ликвидировал режиссерский факультет». У нас все ахнули: в этой старейшей театральной стране! А он считает, что режиссуру не надо преподавать, это другая профессия. Икона западного театрального мира Питер Брук не имеет никакого режиссерского образования. Но это не значит — давайте закроем все режиссерские факультеты. Это другая крайность. Я не сторонник экстремальных решений. Так вот Серебренников, Гинкас, Рыжаков, Каменькович в какой-то степени, Костя Райкин — это, конечно, моя сознательная политика. Не для сокрушения каких-то там основ, а для того, чтобы в Школе понимали: каждый педагог — это свой метод, своя тропинка или направление. А каждое приглашение руководителя курса — ответственное решение. Ошибаешься, притом сразу на четыре года.
МД: А может, не надо ошибаться сразу на четыре года? Может, есть какая-то ошибка в самой идее, что курс от начала до конца ведет один мастер?
АС: Да, я знаю, что есть школы, где отрицается система одного мастера. Но у меня не хватило духа эту систему разрушить. Я считаю, что педагоги с разных курсов все равно «опыляют» друг друга, ставятдруг у друга спектакли. Если будет общий коллектив педагогов, то неясно, кто отвечает за студентов, они какими-то бесхозными окажутся. Так что у системы мастерских есть свои плюсы и минусы. Минус в том, что если ты попал к неудачному мастеру, или к талантливому, но он тебя не видит — все, твое дело безнадежно. Тут такая вкусовщина царит! Целый ряд людей, окончивших Школу и ставших звездами кино, их именитые мастера даже не помнят как студентов. И наоборот, педагог с негромким актерским именем оказывается порой очень талантливым в умении разглядеть чужое дарование.
МД: Я не могу не задать вам давно мучающий меня вопрос. Вот мы говорим: школа, школа, от себя идти, от воображения, метод физических действий… А я прихожу в кинотеатр на какой-нибудь голливудский фильм, например «Линкольн» Спилберга. Перед этим идут нарезки из тех фильмов, что coming soon, в том числе из российских. И как только видишь игру артистов в этих российских фильмах — даже фрагментарно, — просто не по себе становится. Это какая-то чудовищная форсированная мимика, жестикуляция, базарные, визгливые интонации…
АС: А почему, например, если идешь в Бостоне по пляжу… Пустынный пляж, провинциальный городок Ревера. Впереди, на расстоянии 300 метров идет пара, пожилой человек и его жена, гуляют вдоль океана. И ты, не видя их лиц, говоришь: «Это наши». Приближаешься — точно, наши. Просто поразительно! Страна порождает способ даже не речи, а походки, осанки. Она извинительная, боящаяся, запуганная, я не знаю, как определить. Почти всегда безошибочно видишь нашего человека по тому, как он несет сумку — боится, что украдут, что ли. Вот и Евстигнеев играет мерзавца — и видишь, это, черт побери, наш, родной мерзавец.
МД: Это да. Но я о другом говорю. После Дей-Льюиса в том же «Линкольне» невозможно уже смотреть на игру российских артистов, причем артистов с громкими именами: в том фрагменте, о котором я говорила, играли Пореченков, Екатерина Васильева, Мария Аронова. А на игру Евстигнеева после Дей-Льюиса, кстати, очень даже можно смотреть. Так куда делась школа?
АС: Ну, подожди, а фильмы Германа! Там артисты вообще не «играют». Это же волшебство какое-то. А плохая игра везде плохая игра. Есть миллион американских фильмов, где чудовищно наигрывают.
МД: Я специально назвала Спилберга, а не какой-нибудь артхаусный фильм, потому что западное артхаусное кино и наше — это, на мой взгляд, вполне сопоставимые величины. И манера игры сопоставимая. Я вообще считаю, что российское артхаусное кино сейчас переживает взлет. А уж Герман — вообще отдельный случай. Но я намеренно говорю о киношном мейнстриме. В нашем мейнстримном кино и в американском совершенно разное качество игры. Вам так не кажется?
АС: Мне кажется, что хорошие артисты в хороших руках и там и тут одинаковы. Вот «Добрый человек из Сезуана» Бутусова. Внутри и снаружи Школы-студии есть люди, которые пишут, что у нас ничему давно не могут научить и так далее. Но приходит настоящий режиссер — и что-то делает с нашими выпускниками. Причем порой до дрожи просто. Я уже стреляный театральный воробей, но в каких-то местах «Доброго человека» просто воспламенялся, особенно когда Урсуляк, выпускница Школы-студии, между прочим, пела зонги на немецком. Это же закон нашей жизни. Вот, казалось бы, сталинская система, про которую уже написаны тома, погубившая миллионы людей… Все вокруг выжжено напалмом. Но находится зэк — не писатель, не учился в литературном институте, вообще учитель математики, — он пишет «Ивана Денисовича». И одной этой повестью перечеркивает годы строительства высокого идеологического государства. Вот так и в театре — появляется какой-то человек вроде Фоменко или Бутусова и меняет все вокруг себя.