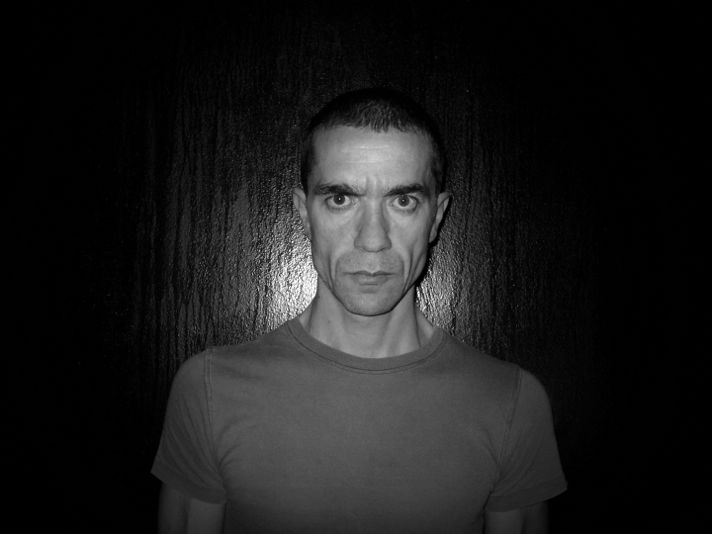В творчестве итальянского режиссера навязчиво присутствуют религиозные образы и символы, а сама манера их репрезентации очевидно роднит создателя театра Socìetas Raffaello Sanzio с миром contemporary art. Театр. разбирается, можно ли назвать навязчивую апелляцию к христианским мотивам Кастеллуччи своеобразным богоискательством и с творчеством каких современных художников проще всего соотнести его спектакли-инсталляции.
Рассказы о «Божественной комедии» Ромео Кастеллуччи передаются из уст в уста, но никто больше не увидит трилогию «живьем». Это был спецпроект Авиньона-2008, которым итальянский режиссер в тот год сам и руководил. Помните, как в жаркие дни 2008 года никого не пустили в «Рай»? Ни одного человека там не было: лишь игра света и тени в затопленной церкви целестинцев — капли дождя, обгоревший рояль в алтарной нише да хлопанье черной завесы над ним. Их можно было рассматривать сквозь небольшой проем не дольше пары минут. «Изгнание из рая» — такое название куда больше подошло бы этой части трилогии.
Зато в «Ад» пускали охотно, а публика и подмостки в одном из эпизодов оказались накрыты огромным покрывалом-саваном, протянутым прямо над головами. Необъятный Почетный двор папского дворца, основная площадка фестиваля, тут казался дантовой воронкой. Сбежал из нее только обнаженный гимнаст, который в самом начале спектакля бесстрашно лез по отвесной стене дворца на самую крышу. Вскарабкавшись на карниз готической розы, он замер в позе золотого сечения. Так Ромео Кастеллуччи, художник по образованию, изящно перевел спор Возрождения со Средневековьем (а заодно светской и религиозной культуры) на язык пластических искусств.
***
В связи с работами итальянского режиссера на память в первую очередь приходит венский акционизм (тем более что contemporary art принадлежит Кастеллуччи в той же степени, в какой и театру). Эти классики перформанса считали свое искусство «эстетическим способом молиться». С ортодоксальной точки зрения, подобный способ является крамолой не меньшей, чем известный панк-молебен: работы венских акционистов полны насилия, крови и грубой физиологии. Но увечья, которые наносили себе художники, — это еще и дань христианскому обычаю умерщвления плоти.
Тема плотских страданий переходит у Кастеллуччи из спектакля в спектакль. В прологе к «Аду» он надевал защитный костюм, а потом на него спускали собачью свору. Режиссер как будто просил разрешения пережить мистический опыт Данте — после своеобразной инициации он вставал на четвереньки, накрывался шкурой и сам превращался в собаку, что не в меньшей степени отсылает к другому перформеру — Йозефу Бойсу, три дня прожившему в клетке с диким койотом.
И тем не менее если искать Кастеллуччи ближайшие аналогии в изобразительном искусстве и практиках contemporary art, то это будут не перформансы шестидесятых, не Энди Уорхол, не Марк Ротко, не кто-либо другой из художников, которые впрямую вдохновили его сценические работы и которых он обильно в них цитирует, а современник, почти ровесник режиссера — британец Дэмьен Хёрст.
У обоих страсть к пышным названиям — «Гамлет. Неистовая внешняя сторона смерти моллюска» или «Проект „J“. О концепции лика Сына Божьего» Кастеллуччи ничем не хуже «Комфорта, возникшего в результате присущей всему сущему лжи» Хёрста.
Обоим интересна физиология и материальный образ смерти: Кастеллуччи использует кровь, экскременты, кости, шкуры и чучела, Хёрста прославила серия Natural History, в которой на разные лады повторяется один и тот же прием — труп животного в растворе формалина.
Любопытно, что оба художника соединяют эти безобразия плоти с религиозными сюжетами, обнаруживая скрытую в них борьбу человеческой воли со смертью и тлением.
Хёрст на протяжении десяти лет работал над «Тайной вечерей». В конце концов он показал публике двенадцать резервуаров с телячьими головами в зеленоватом формалине и еще один пустой — место принадлежало Христу, который вознесся на небо во плоти. Разумеется, художник поиздевался над святыми мощами (если верить католикам, то головы апостолов Петра и Павла действительно хранятся в римском кафедральном соборе отдельно от тел). Это одновременно и самое трогательное творение Хёрста: возле безобразных останков он поставил памятник бессмертию духа и идеи — куб, заполненный ясно-голубой жидкостью.
Но коренное родство с Кастеллуччи все же в другом. В 2006 году Хёрст выставил «Покой одиночества». Три контейнера с барашками, скорчившимися в ванных комнатах, — это буквальное повторение триптиха кисти Фрэнсиса Бэкона, которого он считает своим учителем. Дело было не в сходстве композиции и не в том, что освежеванные туши в самом деле похожи на бэконовских уродцев, а в недвусмысленной декларации: вот это и есть экспрессионизм сегодня. Быть прежним он уже не может.

В музее что-то впечатляет нас, что-то оставляет равнодушными, но маловероятно, что нам удастся увидеть и почувствовать то же, что видели современники художника. Мы можем отстраниться от послевоенной депрессии картин Фрэнсиса Бэкона и не испытывать к его растерзанным созданиям никаких чувств. Чтобы заставить нас видеть то же, что и Бэкон, Хёрсту нужно взять корову, разрезать ее и положить в формалин. Вот это отношение к традиции и объединяет его с Кастеллуччи: они интерпретируют не содержание, а, скорее, форму известных произведений, текстов, сюжетов; не столько добавляют им новый смысл, сколько пересоздают их с помощью новых приемов.
***
Христиане Парижа и Вильнюса громко протестовали против спектакля Кастеллуччи «Проект „J“. О концепции лика Сына Божьего». Еще не видя его, они знали, что концепция Лика как-то связана с дефекацией. Умирающий отец страдает диареей. Сын терпеливо меняет ему белье и моет белоснежную гостиную, но у старика снова и снова случается понос. Бедняга только и шепчет: «Прости, прости…»
Протестующие парижане-католики принесли в театр плакат «Не трогайте моего Христа!». Но в том-то и дело, что Христос сегодня в той же мере принадлежит светской культуре, что и церкви, и монополия, которую она заявляет на его образ, безосновательна. Кастеллуччи то и дело нарушает монополию.
«Проект „J“» был вдохновлен картиной Антонелло да Мессины «Благословляющий Христос», и все время действия в глубине сцены светится ее огромная репродукция — от пола до потолка. По окончании эпизода с отцом и сыном школьники забрасывают Христа гранатами с таким невозмутимым видом, как если бы они кидали в море камешки. В другом спектакле Кастеллуччи два породистых пса самым невинным образом поедают отрезанные человеческие языки. Это как бы изнанка добропорядочной мирной жизни, в которой несмышленые создания принято воспринимать как цветы жизни. У Кастеллуччи, напротив, дети, как и собаки, могут стать носителями зла.
…Лик Спасителя покрывается бурыми пятнами. Пленка с репродукцией мокнет и расползается. За ней — сияющая надпись «You are my shepherd», но в ней предательски вспыхивает и гаснет «not». «Ты мой пастырь». «Ты не мой пастырь».
Вынося в заголовок слово «концепция», Кастеллуччи настаивает на том, что делает интеллектуальный театр. Он предлагает зрителю размышлять над увиденным. И в концепции этой не так-то трудно разобраться. Противники спектакля подозревали режиссера в хулиганской интерпретации отношений Бога-отца и Бога-сына — мол, одному вечно приходится убирать за другим. Но все же старик, страдающий диареей, — это, конечно же, не Всевышний. Его единственные слова «прости, прости, прости» в евангельском контексте указывают скорее на иную роль: кающийся грешник.

Да и вообще, ни сын, ни отец не похожи здесь на аллегорические фигуры — это обыкновенные итальянцы: молодой человек в костюме, только что вернулся с работы, папа телевизор смотрит… Эта крайне мучительная для обоих ситуация очень конкретна. Другое дело, что задумана она как ключ к важному эпизоду евангельской истории, когда на Тайной вечере Христос моет ноги своим ученикам. «Проект „J“» — последовательный комментарий к последним дням Иисуса: как за омовением ног следует его поругание и распятие, так и за сюжетом об отце и сыне — атака мальчишек на живописный образ и, наконец, потоки дерьма. Стоит добавить к этому, что духовные слабости для христианства почти синонимичны телесной немощи, а одна из ипостасей Иисуса в Евангелиях — врач, исцеляющий язвы, проказы и другие недуги, в том числе и смерть.
***
Начатый «Проектом „J“» и продолженный «Черной вуалью священника» по мотивам новеллы Натаниэля Готорна театральный триптих Кастеллучи завершился спектаклем «Ресторан „Времена года“», где появляется театральный образ черной дыры с подробным научным описанием явления. Что касается самого ресторана «Времена года», то история этого фешенебельного заведения на Манхэттене имеет отношение к классику абстрактного экспрессионизма Марку Ротко. Владельцы хотели украсить интерьер его картинами, художник решил, что если и примет заказ, то напишет нечто такое, что аппетит откажет у «самых богатых ублюдков Нью-Йорка», но в конце концов предпочел просто разорвать контракт. Сам Ротко был убежден, что занимается духовной живописью, и видел в своих абстракциях подобие икон. Но Кастеллуччи помнит и о другой иконе — о «Черном квадрате» Малевича. Его притягивает тьма, пустота, в которой исчезает лик, божественный образ, подобно тому, как черная вуаль скрывает лицо пастора Хупера из новеллы Готорна.
Он избегает прямо говорить о сегодняшнем дне (что не всегда ему удается), не признает в искусстве того, что называет хроникой; однако его взгляд — это взгляд сугубо современного человека, который не общается с высшей силой (ее для него уже нет) и верит не вБога, а в космос и в черные дыры.
Когда Кастеллуччи спросили, правда ли, что он ревностный католик, он ответил отрицательно. Богоискательство ему чуждо — его волнует не Бог, а то, каким изображали Бога во все времена от Данте и да Мессины до модернизма. Он художник, безусловно, светский. Он просто заново восстанавливает в своих спектаклях культурную память, потому что ей, в отличие от овечек Дэмьена Хёрста, не место в контейнере с формалином.