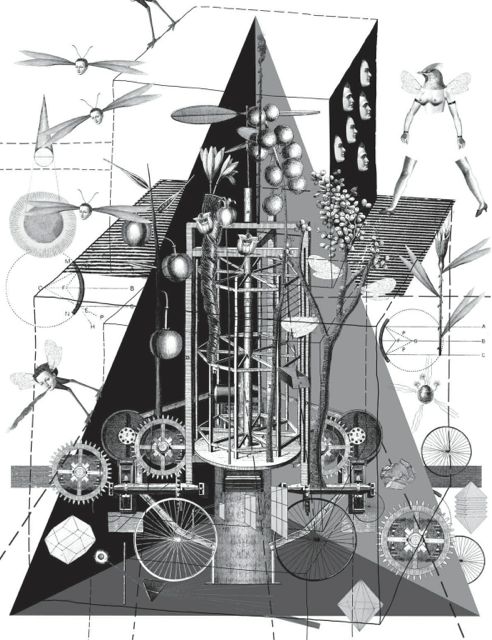Иллюстрация Варвары Аляй
«Сон в летнюю ночь» был сочинен для проекта «Платформа», но ту премьерную версию, которую описывали все рецензенты, я не видела. Критики отмечали, как удачно сочетается идея разобрать пьесу Шекспира на составляющие, расплести ковер его замысла на основные нити (истории про эльфов, про ремесленников, про герцогов, про людей) в нетеатральном пространстве «Платформы» (дело происходило на «Винзаводе», в Цехе белого). Но когда пришло время вписать спектакль в обновленный Театр Гоголя, он, на мой взгляд, оказался для этого местом еще более подходящим.
Волшебный лес, столь важный для пьесы Шекспира, в спектакле Серебренникова заменен на другой волшебный мир — мир театра. Это никак оригиналу не противоречит, ведь волшебство театрального представления и заключается в первую очередь в самом факте преображения знакомого человека, места, предмета в нечто иное.
Первый акт начинается в большом зале, где между двумя амфитеатрами сооружена сцена, продолжается в фойе второго этажа, где зрителям дважды предлагают новую рассадку, и, наконец, завершается кодой, то есть настоящей театральной сценой, на которой зрители стоят во время последнего акта. В самом финале они прикасаются к ней руками, помогая вращать сценический круг. Таким образом, путешествие по зданию превращается в часть представления, которое помогает, в свою очередь, осваивать новую и для труппы, и для зрителя территорию.
Начало, где Оберон и Титания выясняют отношения, проходит в декорации, изображающей старую, заброшенную дачную оранжерею с разбившимися стеклами, засохшими растениями, садовой мебелью и забытыми игрушками, среди которых то ли глобус, то ли мяч с изображением земного шара (простая метафора для уточнения масштаба Оберона и Титании, не царей эльфов, а как бы тех изначальных, космических богов, чьи распри сотрясали землю). Лично у меня эта сквозная и прозрачная оранжерея, сквозь стекла которой мы глядим на актеров, более всего ассоциируется со спектаклем Анатолия Васильева «Серсо». Причем я не могу точно описать те конкретные ассоциации, которые позволяют сделать этот вывод. Кроме того обстоятельства, что в «Серсо» зрители тоже наблюдали за действием, происходящим внутри прозрачной конструкции — дачной веранды. Прием с тех пор использовался не раз, но мой личный опыт связывает именно эти два события: уж если речь идет о театральной преемственности, то в силу особенностей театральной мифологии наши эльфы-боги-титаны — это, конечно, те, чьи спектакли не стали окончательно книжной историей, но еще помнятся если не по личным впечатлениям, то по живым свидетельствам.
Прихотливость ассоциаций — вообще свойство режиссуры Серебренникова. Он набрасывает много — иной раз слишком много — разнородных приемов, не всегда отбирая наиболее значимый, и в этом изобилии деталей мерцает магистральная идея, уловить которую не сразу удается. Театральный текст его спектаклей не предполагает прозрачность и внятность, он не столько логичен, сколько рассчитан на интуицию, на возбуждение собственной эмоциональной памяти. Режиссер как бы щупает зрителя, тычет в него разными предметами, надеясь попасть в чувствительные места, раздражая нервные центры.
Основная тема «Сна в летнюю ночь» — любовь. Шекспировская метафора про сок волшебного цветка, который заставляет воспылать неодолимой страстью к чему угодно, хоть к ослиной голове, в спектакле становится поводом для рассуждений о любовной зависимости, о природе влечения, о борьбе полов. Оберон и Титания ссорятся из-за юного пажа, к которому Титания слишком привязана. Паж — юноша вполне половозрелый, но дело не в ревности. Драматург Валерий Печейкин дополнил текст Шекспира монологами персонажей, в которых сочетаются психоаналитическая проблематика и поэтические туманности. Поэтому Оберон получает страх смерти и, как следствие, страх перед возможным наследником: «У нас не может быть ребенка: мы боги, а богов не должно быть слишком много. Нельзя умножать такие грандиозные сущности».
Титанию же, уязвленную в своем несостоявшемся материнстве, смерть не пугает, ее природный цикл включает в себя ежемесячную смерть с той же легкостью, что и ежемесячное воскрешение. Но вот уничтожение плода, на котором настаивает Оберон, воспринимается ею как убийство, насилие, угроза продолжению жизни.
Купидон, в версии театра представший верзилой-андрогином двухметрового роста, увеличенного еще и котурнами, со стрелой в горле и цветком на причинном месте, — образ сегодняшней страсти, в которой куда больше, чем в шекспировские времена, нарциссизма и расщепления, и столь же много боли и недоумения. Сок цветка соскребают с его подмышек, что придает физиологическую остроту внезапной страсти, охватывающей жертв резвящихся Паков — немолодой дамы с вуалеткой и юноши в рогатой шапочке.
Первыми жертвами становятся вчерашние школьники, на выпускном решающие свои первые любовные проблемы. Их четверо, и оба юноши теперь влюблены во вчерашнюю лузершу Елену, страдающую от высокого роста, крупных габаритов и общей нелепости. Поверить в свой успех она не может, подозревая лишь насмешки и унижение. Начальная стадия любви еще не искушенных молодых людей связана с примеркой социальных ролей. Уязвленное самолюбие и страх остаться невостребованными — вот их двигатель. Влюбленность в этом возрасте — самоутверждение, ей нужна победа, признание. Взаимность — приз в ожесточенной борьбе за внимание, за место в общественной иерархии, это соревнование самостей, самолюбий, и тут все средства хороши. Мусорный бак, занимающий центральное место в ряду школьных парт — знак социальной неполноценности, страшная угроза вероятной несостоятельности. Все действительно зыбко — телесность неустойчива, вчерашняя красавица становится уродиной, а нелепый очкарик превращается в мачо. Тело шутит шутки почище любых эльфов — преображение плоти неподконтрольно разуму. Все возможно — и потому зыбко и страшно, но и волнующе. А еще — действительно очень смешно.
В следующем, третьем, акте «правители», хозяева жизни, мужчины и женщины в самом соку, зрелые особи, попробовавшие любовь во всех вариантах, делятся травматическим опытом. Опыт несладок — насилие и унижение, подчинение и уязвленное самолюбие. В этом акте на помощь Валерию Печейкину, сочинившему монологи для действующих лиц (еще есть тексты, написанные актером Ильей Ромашко), приходит другая пьеса Шекспира — «Укрощение строптивой», на удивление хорошо описывающая отношения новых богатых.
На мой взгляд, социальный статус любовников не имеет особого значения — возраст важнее: зрелость уже не позволяет обольщаться, но еще и не отпускает влечение. Для любовников, ставших супругами, главным становится власть. В отношениях необходимо доминирование — один зависит, другой допускает, объект вожделения вызывает ненависть, страх разжигает чувство, уязвимость угнетает, а независимость делает одиноким. Ловушки подсознания и тенёты вожделения приводят героев на кушетки психоаналитиков, где происходят безнадежные попытки осознать происходящее. И скрытая агрессия выливается кефиром на голову жены, очередная шуба заменяет ласки, ад совместной жизни обнажает абсурд современной глянцевой love story.
Примирение и гармония возможны лишь со старостью, когда гормоны перестают требовать своего и мучительная зависимость от желания проходит. К финалу акта актеры надевают маски стариков — так усмиряется плоть и уходит страх подавления.
Четвертый акт — репетиция ремесленниками пьесы о Пираме и Фисбе. Театр переносит зрителей в обычный строительный вагончик, где самодеятельные артисты, поедая лапшу «Доширак», распределяют роли и разучивают тексты о романтической любви и трагическом недоразумении. Никаких собственных мотивов, кроме желания заработать, получив одобрение герцога и обещанную пенсию, у них нет. Нет и никакого личного отношения к сути разыгрываемой пьесы тоже — они путают слова и легко меняют местами реплики. Ткач Моток пытается их сгруппировать, но дисциплина дается с большим трудом.
Недавно именно эту часть пьесы Шекспира использовал Дмитрий Крымов для спектакля со сложным названием «„Как вам это понравится“ по пьесе Шекспира „Сон в летнюю ночь“». В его спектакле главной темой стала механика театрального представления. Действие было перенесено в театр, где на сцене большая группа самодеятельных артистов пыталась совладать с довольно сложной машинерией, не вполне умелые, но старательные мужчины толпой бегали за гигантскими куклами, изображавшими Пирама и Фисбу, пытались восхитить публику доморощенными спецэффектами, а в шатких ложах, покрытых строительной пылью и полиэтиленом, переругивалась публика, пришедшая развлечься зрелищем и шампанским. В этом театре все было недоделано или полуразрушено, шатко и непрочно. Да и настоящих зрителей там поливали водой, тревожили ветками невероятного по размерам дерева — его волокла через весь зал на сцену та же шумная и неслаженная толпа исполнителей. Мир театрального искусства в том спектакле подвергался деконструкции, обнажал свою бутафорскую сущность, но все же в какой-то момент чудом собирался, и возникала настоящая эмоция.
Чудо происходит и в спектакле «Гоголь-центра». На покрытом коврами помосте робкие мастеровые начинают свой спектакль — это последний, пятый акт пьесы. Любители увлекаются, им на помощь приходят эльфы, совместными усилиями представление поднимается до высокого эмоционального накала. Наивная история двух разлученных любовников превращается в балет и в оперу. Ария из оперы Монтеверди «Орфей» становится кульминацией. Стоящая перед помостом публика присоединяется к актерам, вращающим сцену. Волнение нарастает. Сцена движется все быстрее. Голос певицы влечет в идеальный мир, где все прекрасно, где есть гармония и красота. Эта красота рождается из совместных усилий. Все зрители уже толкают круг сцены, звучит музыка, пафос становится уместен, театр преображает реальность, волшебство сработало, из грубых примет материального мира родился удивительный миг экстаза. Вот она, сущность и цель искусства и любви.
Идеальное, к которому стремится любая душа, открывается не больше чем на считаные мгновения. Полнота ощущений не предполагает их протяженности, да ее человеку и не выдержать. Любовь трагична, Пираму не вернуть Фисбы, мужчине не стать женщиной, женщине не слиться с мужчиной, двум не стать одним, разделение неизбежно. Но есть мечта, желание и воображение.
Несмотря на все эксперименты с текстом и измененную структуру пьесы, спектакль получился удивительно шекспировским по духу. Трагическое (то есть неразрешимое) противоречие оказалось снято единственно возможным образом — переводом в область идеального, в высокую сферу искусства, которое для того, в общем, и существует и потому притягательно, что способно на какое-то время удовлетворить потребность человека в абсолютной гармонии.