В глазах европейского зрителя театр Socìetas Raffaello Sanzio — это прежде всего элегантный, чуть отстраненный интеллектуал Ромео Кастеллуччи. Тем временем работа театра в Чезене в большой степени лежит на плечах режиссера и педагога Кьяры Гвиди, работающей над собственной теорией сценического слова. Журнал Театр. расспросил соратницу известного постановщика о том, чем занимается «Общество Рафаэля» в небольшом старинном городке, расположенном неподалеку от приморского Римини.
Одно из важных направлений работы Socìetas Raffaello Sanzio — детский театр, где в качестве актеров выступают ровесники зрителей. Стиль театра Кастеллуччи и Гвиди в нем легко опознаваем хотя бы по тому, что место сюжета в этих спектаклях нередко занимает последовательность суггестивных образов — визуальных и, что не менее важно, звуковых. На мастер-классах Гвиди обучает актеров необычному методу работы с речью. Результатом ее экспериментов стали камерные спектакли, концерты, декламационные хоры: «Флатландия», Madrigale Appena Narrabile (букв. «Мадригал, который едва ли можно рассказать»), «Крионические песнопения» (The Cryonic Chants, на музыку Скота Гиббонса). Последние несколько лет Гвиди руководит ежегодным фестивалем Mantica (букв. «Прорицательство»), посвященным разнообразным практикам работы с голосом и речью в музыке и театре. Вскоре после премьеры спектакля «Макбет», поставленного с учениками Accademia di Arte Drammatica, Валерий Золотухин поговорил с Кьярой Гвиди о звуке как пейзаже, голосе как материале и о разработанной ею «молекулярной технике речи».
В «Обществе Рафаэля» вы, с одной стороны, отвечаете за все, что связано со сценической речью, с другой — выпускаете собственные детские постановки. Эти два направления взаимосвязаны?
КГ: Детство — одна из двух главных тем или же двух областей исследования, с которыми я постоянно работаю в театре. Я понимаю детство не как возрастную фазу, а как материю и связываю его с физическим, чувствительным познанием. Это совершенно особый опыт: нам дана способность видеть и постигать все окружающее нас, но она предшествует способности познания разумом, рефлексии. Другая тема — голос. Это тоже материя. Он чем-то похож на музыкальный инструмент: можно сказать, что голос «говорит» независимо от значения слов, которые произносятся с его помощью. У голоса есть свое собственное значение. Его материал — звук. Голос почти что можно потрогать руками, его можно увидеть. Чувства слуха и зрения в этом случае смешиваются, и восприятие становится похоже на опыт познания в детстве. Отсюда появилась идея моего театра. Если брать примеры из практики, то представим: передо мной лежит текст, и встает вопрос, каким голосом играть этот текст? Может ли, скажем, голос заменить значение слов? И если да, то как? Я отвечаю: звуком. Я пытаюсь искать глубокие смыслы слов, которые ведут меня к истокам этого текста. Может быть, даже когда этот текст еще не был написан, когда он еще был музыкой в голове человека, сочинившего этот текст.
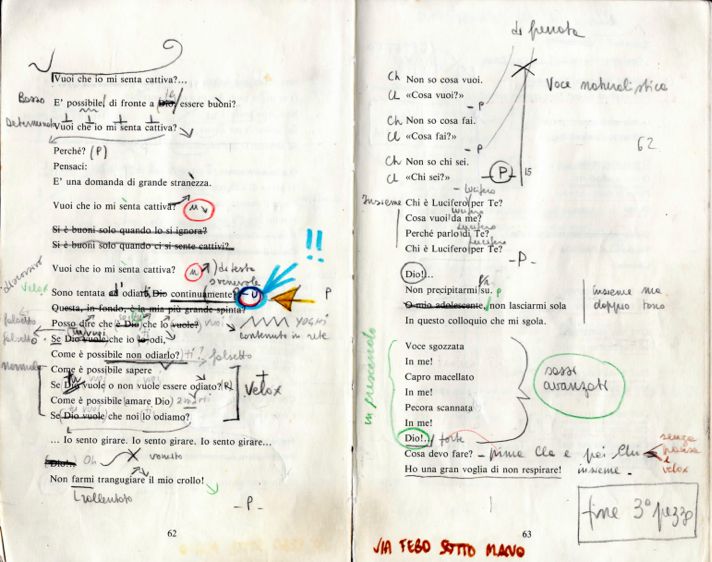
Речь идет о поэтических текстах?
КГ: Не только. Это могут быть стихи, но также сказка, роман, самые разные тексты. При таком подходе голос становится телом, которое мы хотим показать на сцене. Как режиссер и исполнитель, я не ставлю значений этого текста, но ищу для спектакля, если угодно, истоки этого значения, которые я могу найти только через голос, через его музыку. Поскольку именно музыка может говорить что-то, ничего не говоря. Когда ты слышишь музыкальный звук, он вызывает у тебя эмоцию. Как будто кто-то рассказывает тебе историю. Но в то же время истории нет. На мой взгляд, это очень близко к воздействию голоса.
Как это отличается от традиционной работы актера и режиссера над текстом?
КГ: Актер на сцене произносит: «Я умер». Можно сказать, что он трижды повторяет содержание: с помощью значения слов, затем своего «угасающего» голоса, иллюстрирующего своим звучанием значение слов, а также жеста, которым он нам это показывает. Это случается, когда актер работает только со значением. Но я хотела бы временно оставить в стороне значение и постараться уяснить для себя идею текста через музыку голоса. И только затем я найду смысл. Голос в этом случае становится музыкальным инструментом, который позволяет мне проникнуть в драматический текст. Например, передо мной текст «Флатландии» (английский сатирический роман XIX века Эдвина Э. Эбботта, действие которого разворачивается в двухмерном мире, а повествование ведется от лица персонажа Квадрата. — Ред.), и сначала я начинаю читать его вслух, но не для того, чтобы понять, о чем идет речь (в конце концов, вопрос о значениях уже решен автором или переводчиком), а чтобы слышать, как звучит мой голос. Еще одна проблема, которая имеет отношение к композиции, — это ритм. Чтобы избежать хаоса, надо сделать так, чтобы билось одно сердце. Возможно создавать разное биение, как в живом теле.
Эпитеты вроде «органический» или, например, сравнения с живым телом, кажется, рифмуются с «молекулярной техникой голоса», над которой вы работаете. Расскажите о ней подробнее?
КГ: Музыкальный инструмент голоса входит в слова и позволяет узнать их с другой стороны. У этого голоса должна быть сила живого существа, голос должен быть органичным. Поэтому я начала думать о создании молекулярной техники голоса, работающей со слогами, с фонемами. Когда я танцую на сцене, я знаю, куда и когда моя рука будет двигаться. Я знаю, как малейшие части моего тела должны двигаться. И я спрашиваю себя: если я знаю это в танце, то почему я не должна так же хорошо знать и то, как двигаться моему голосу? Я должна точно определить, какой тон, тембр и т. д. мне нужен. Это потому, что актер сегодня думает только о значении слов. Но эти слова я могу сегодня прочитать в книге!
Я не хожу в театр, чтобы понять значение текста, но хожу, чтобы открыть этот текст, даже если я его уже знаю. А чтобы его открыть, надо найти изначальный музыкальный пункт его происхождения. Я не могу сказать на сцене: «Я называю наш мир Флатландией». (Произносит с разговорной интонацией.) Это не голос-тело, а голос, лежащий поверх текста. Надо работать над слогами. В начале каждой космогонии звучащий слог. (Читает фрагмент, подчеркивая большие интервалы мелодических ходов, глиссандо, изменения динамики и тембра голоса.) Это вопрос музыкальный, который рождается от осознания хрупкости наших индивидуальных голосов, а не от того, какое значение голос должен передать. Я работаю с речью скорее как композитор. Вопросы о значении касаются риторики, музыки до Бетховена.
Тогда в самом деле конструкция могла быть риторической. Но современное искусство и современная музыка иначе относится к голосу, он становится предметом, существом… массой. Поэтому когда я играю, я вижу свой голос перед собой. Я говорю ему: иди налево, направо, вниз. Как будто это тело, которое я двигаю в пространстве.

А как проходит обучение этой технике?
КГ: Очень важное упражнение — слушать каждый день один и тот же звук или музыку. На последнем мастер-классе я давала слушать актерам звук японской флейты: каждый день в течение месяца они должны были слушать этот звук все вместе. Мы стараемся увидеть этот звук, то, как он двигается в пространстве, будто бы это предмет. Таким образом, можно получить представление и о форме твоего собственного голоса, потому что если ты не знаешь свой голос, ты не можешь добиться от него органичности. Необходимо освободить свой голос от недостатков театра XIX века, более не имеющего смысла. Какой смысл сказать со сцены: «Я леди Макбет»? Что я здесь интерпретирую? Значение? Нет, я исполняю музыкальную партитуру с помощью своего голоса, поскольку она является, можно сказать, визуальным представлением этого текста. Это фигура.
И еще одна важная вещь: речь не должна звучать искусственно, поскольку эмоция теряется, если техника становится очень заметной.
То есть что первый этап работы — это поиск своего естественного голоса?
КГ: Да.
Можно ли сказать, что речевая партитура становится основой того, что мы видим на сцене — мизансцены, жеста, сценографии?
КГ: В том числе.
Есть ли в ваших партитурах место для обычной разговорной интонации?
КГ: Это зависит от драматургического ракурса: разные интерпретации текстов создают собственные мелодии. Она имеет глубокий музыкальный смысл, и мне кажется, что можно передать слушателю значение даже с помощью слов, которых он не понимает. В «Флатландии» и «Мальчике-с-пальчике» только один голос, он все рассказывает. В «Мадригале» (Madrigale Appena Narrabile), спектакле неповествовательном, звучит много голосов. «Макбет» с молодыми актерами — это полифоническая работа. Использование же музыки зависит от конкретной ситуации. В одних спектаклях она не нужна, в других, как, например, в «Девочке со спичками», — необходима, музыка и голос в них фактически становятся одним телом. То, что девочка видит в зажженной спичке, — это то, что мы представляем, слушая музыку. Пламя и звук. Для спектакля «Оскорбление» (Ingiuria) мне нужен был исполнитель, имеющий большую мощность в голосе. Голос, который мог бы произносить проклятия. Я пригласила для этого немецкого музыканта и певца Бликсу Баргельда.
В Чезене вы играете спектакли в совсем небольшом зале. Для вас важна камерность, позволяющая сохранить естественный голос?
КГ: Нет, мы работаем с микрофоном.
Когда вы работаете с поэтическими текстами, отличается ли это существенно от работы над прозой? Есть ли вообще какая-то разновидность литературы, которая категорически не подходит для вашего метода?
КГ: Для каждого произведения — будь то проза или поэзия — создается новый язык, новая среда. В работе мне не встречались произведения, к которым я не могла бы применить эту методику. Но важно, чтобы текст вызывал у тебя отклик. Недавно, например, национальное радио попросило меня прочитать «Записки из подполья» Достоевского. Они выбрали это произведение сами, но я, будучи знакома с этим текстом, согласилась, применив к нему те принципы, о которых говорила выше.
Вы упомянули спектакль Madrigale Appena Narrabile. Имеются в виду реальные мадригалы или это условное название для музыкального жанра, в котором вы с актерами работаете?
КГ: Да, речь идет об историческом мадригале. В этом спектакле я с помощью профессиональной певицы-мадригалистки перенесла эту форму в театр. Но мне интересно было попробовать создать вместо формы recitar cantando — игры, сопровождаемой пением, cantare recitando, то есть пение во время игры. Здесь, как и в других постановках, я не интерпретировала слова, а осуществляла движение голоса в пространстве.
Когда вы работаете с актерами, партитура для них сочиняется заранее или создается во время работы?
КГ: Это зависит от конкретной работы.
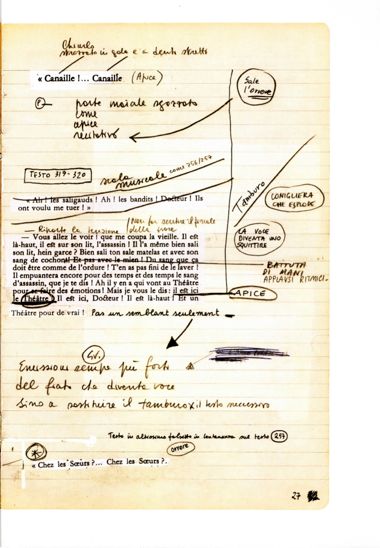
Есть ли у ваших экспериментов какая-либо традиция в итальянском театре?
КГ: Не думаю. Я много слушаю этнической и симфонической музыки, опираюсь, в первую очередь, на нее, а собственную задачу вижу именно в сочинении композиции. Поэтому я и работаю много с музыкантами. Но мой театр неправильно было бы называть музыкальным; правильнее сказать, что он приходит к эмоциям через музыкальность голоса. Я ожидаю, что у зрителей возникнет индивидуальное ощущение от спектакля, отличающееся от опыта, если угодно, коллективного понимания с помощью разума в обычном театре. Здесь мы возвращаемся к детству: ведь дети делают все индивидуально — они трогают вещи, ощупывают, ломают их. Другими словами, я вижу в детстве новое представление о театре, новые возможности для него. Что касается мастер-классов, то это персональный метод, имеющий мало общего с современными итальянскими или французскими школами. Французские актеры, которые приехали сюда, были поражены и обнаружили новый способ играть. Актеры, с которыми мы сейчас готовим новую версию «Мадригалов», они тоже обнаруживают для себя совершенно новый подход.
А откуда берутся исполнители на роли в ваших детских спектаклях? Скажем, актриса в «Девочке со спичками» — кто она?
КГ: Ее зовут Лючия Трансфорини, она играла вместе с группой детей в сказке «Жар-птица», которую я поставила в Сантарканджело-ди-Романьи. Когда мы репетировали, я обратила внимание на девочку, которая всегда повторяла за мною то, что я говорила, и мне захотелось поработать с ней. Спектакль «Девочка со спичками» мы репетировали, следуя особому методу: по одному часу в день в течение двух месяцев я задавала ей вопросы вроде «Что случилось с бабочкой?», совершенно особым образом интонируя их. Отвечая, к примеру, «Она влетела в дом», ей также нужно было вслед изменять свой тембр и тон, подстраиваясь под меня. В конце концов, когда она уже наизусть все знала, речь стала более естественной. В спектакле мы оставили эти диалоги.
Я хотел бы вернуться к вашему примеру с репликой «Я леди Макбет». Что же должен передать зрителю голос актрисы, произносящий ее?
КГ: Звуковой пейзаж леди Макбет. Звуковое место. Потому что актер — звучащее тело, которое звучит и слушает одновременно. И слушая, ты оказываешься в звучащем океане. У сегодняшнего актера еще есть представления XIX века. Он видит своего персонажа, дает свою интерпретацию, но теряет контакт с природой, жизнью. Но у современного актера нет духа для этой работы. Ведь мы не плачем больше на спектаклях. Актеры холодные, потому что применяют свой голос к тому, что им не принадлежит. Я не интерпретирую персонажа, не интерпретирую текст, все это уже есть. Я превращаюсь в звучащее тело. Почему актер, который шагает по деревянной сцене (стучит по деревянной сцене), не учитывает в своей речи тишину в паузах между этими ударами. Почему он отказывается быть внутри звучащего мира, звучащего океана? Если нет проблемы звучащего окружающего пространства, другой актер, который с ним играет, ему все равно, как он заканчивает, — на восходящей интонации или нисходящей. Если актер не создает сонорные отношения, не слушает партнера, то может ответить случайным образом, как ему хочется. Первое правило: знать свой собственный голос. Второе: нужно слушать его в отношении с другими звуками и голосами.
Получается, что сыграть роль леди Макбет означает дать зрителю возможность ощутить с помощью голоса внутренний мир леди Макбет и мир вокруг нее?
КГ: Да. Но это моя собственная партитура, я ее пишу. Например, когда она, леди Макбет, говорит: «Извратите пол мой» («Unsex me here»). По-французски это sexe, по-итальянски похоже — sesso… Общее здесь — особый звук «s», и надо сделать так, чтобы фонема зазвучала. Слово — это материализация действия, и свою задачу я вижу в том, чтобы вернуться к этому изначальному действию. Это конкретный жест поэта, который выбирает одно слово и отбрасывает другое. На чем это основывается? Часто он выбирает его именно на основе звука, а не на основе значения.
Поэтому лучше обращаться к тем отношениям со словами, которые есть у детей, когда «думать» значит «изображать». Когда я произношу слова, я вижу, как они двигаются, как образуется пейзаж. Так что первое, что голос должен сделать, — создать пространство, где может находиться этот голос. Когда я читала вслух роман «Флатландия», готовясь к постановке, вдруг мой голос как-то застрял, в определенный момент он сломался — и я поняла, что что-то внутри текста начало двигаться, одна плоскость столкнулась с другой. В эти моменты сам голос вдруг начинает что-то придумывать, я же останавливаюсь, включаю свою интуицию и вслушиваюсь в него, чтобы из хаоса возможностей создать ядро композиции.
Автор благодарит Франческу Бьяджини за помощь в организации и проведении интервью.
