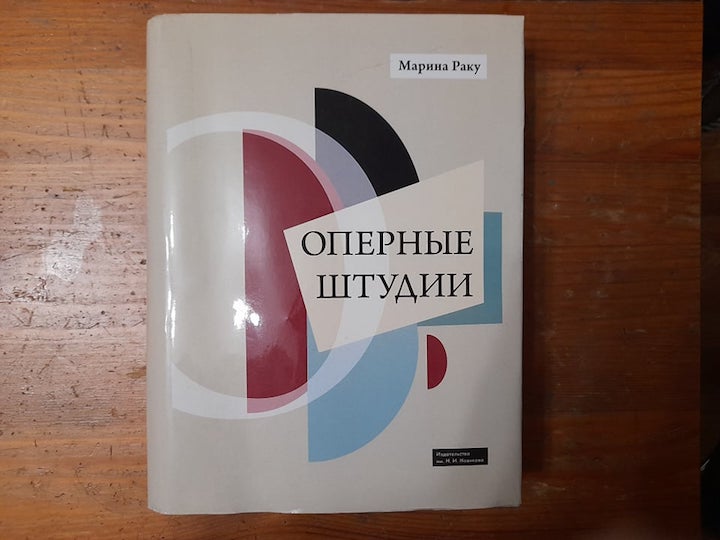Анна Сокольская, авторка нашего “оперного” номера, рецензирует книгу другой авторки, Марины Раку. По забавному стечению обстоятельств и название у нее практически то же, что у статьи в №42. Видимо, разговор про “Оперные штудии”, поднятый на страницах журнала Театр., сегодня необходим и даже неизбежен.
В названии книги Марины Раку «Оперные штудии» (Издательство имени Новикова) нетрудно заметить сходство с термином opera studies. Это нарочито архаичная, уютная калька с практически общепринятого сейчас названия для междисциплинарных исследований оперного жанра. И эта игра стилистическими регистрами (какой немало и на страницах самой книги) содержит скрытый вызов: способно ли историографическое мышление, традиционное для российского музыкознания, вступить в альянс с современными междисциплинарными подходами, нуждается ли в них? Способно — и нуждается. Впрочем, на страницах книги нет места категориям гендерной или постколониальной теории: она полностью умещается на дискурсивной территории, которая принадлежит университетской гуманитаристике и на которой отсутствует любая рефлексия идентичности, кроме идентичности эстетической.
Книга составлена из текстов разных лет (статьи, написанные в 1990-х и 2000-х, были переработаны для этого сборника), сгруппированных в три раздела: «На романтических подмостках», «В поисках советской оперы» и «После конца оперы». От оперы — царицы культурного пространства европейского романтизма — к перекраивающим ее облик и судьбу социально-политическим и эстетическим проектам советской власти, и наконец к деконструкции и распаду (накануне возможного перерождения): таков маршрут книги. И заголовки разделов недвусмысленно обрисовывают эсхатологию жанра.
***
Герои первого раздела — фигуры «эпохи гениев», создатели репертуарных хитов: это итальянские композиторы романтического бельканто («Предварительные рассуждения об итальянской опере раннего Отточенто»), Мейербер («Приключения «Роберта-дьявола» в России»), Вагнер («Размышляя о «тайне формы» у Вагнера») и Чайковский («Пиковая дама». Интертекстуальные опыты»). В первых двух текстах в центре оказывается путь сочинений Россини и Мейербера в литературно-критическом и театрально-институциональном поле XIX века, формирование их образа в сознании критиков и зрителей — и отчасти сценическая судьба. Статьи о Вагнере и Чайковском сосредоточены на иных проблемах: «тайна формы» в операх Вагнера рассматривается как музыковедческий конструкт, и здесь исследовательская мысль автора вступает на тропу метаанализа влиятельных концепций. В тексте о «Пиковой даме» (подытоживающем почти тридцатилетнюю работу автора над этой темой) осуществляется деликатный генетический анализ оперы Чайковского. Ее претексты и интертексты рассмотрены в духе этапных для российской гуманитарной науки постструктуралистских работ — исследований историка и теоретика искусства, киноведа Михаила Ямпольского или лингвиста и литературоведа Александра Жолковского.
Во второй части книги ракурс смещается на социологические, институциональные аспекты существования оперы в советской России («Оперный театр и советская власть. Начало трудного романа») и на ее жанровые метаморфозы в условиях культурного строительства («Опера на путях и перепутьях сталинской эпохи»). Оба текста выстроены при этом по традиционному хронологическому принципу, но каждый подчинён своей центральной идее: в первом исследуется влияние дискурса власти на репертуарные стратегии академических театров (прежде всего Большого), во втором — преобразования жанровых моделей XIX века в творчестве советских композиторов сталинского времени. Особняком стоит статья «Об одном незавершённом проекте «советской комической оперы», или Квартирный вопрос в Москве-столице». В ней виртуозно проанализирована диффузия текста оперы Корчмарева (текста незаконченного и, кроме того, эстетически более чем несовершенного, как демонстрирует автор) и его социального, идеологического и культурного контекста.
Третий — самый лаконичный раздел — посвящен оперному театру последних десятилетий. Несмотря на небольшой объём этой части, диапазон тем оказывается здесь наиболее широким. Это и аналитическое эссе, в котором рассматривается поэтика оперы Денисова («С того берега. Об опере Эдисона Денисова «Пена дней»), и феноменологический поиск точек контакта между операми XX-XXI веков и их публикой («Оперный жанр как антропологический феномен»). В статье «Генезис и смыслы режиссёрского мейнстрима современного оперного театра» режиссёрская опера наших дней возводится к театральным экспериментам начала XX века, а «Кризис современной оперы. Между социологией и эстетикой» является по сути критическим манифестом. В нем постулируется ритуальная природа оперы («…опера есть жанр мистериальный, литургичный…» — с. 394), которая не соответствует ни элитарности современного авангарда, ни актуализации классических произведений.
***
«Оперные штудии» при всем разнообразии тем и ракурсов имеют магистральное методологическое направление: это метод рецептивного анализа, который в последние 20 лет постепенно выходит на арену русскоязычного музыкознания. И в книге производится неторопливая и постепенная проверка границ и возможностей этого метода.
Автор избегает смещения в сторону культурологического анализа (который — далеко не всегда справедливо — в России становится превентивным приговором работе, поскольку часто приравнивается к широкому и ни к чему не обязывающему антропологическому взгляду на любые художественные феномены). Но междисциплинарная природа рецептивистики даёт о себе знать, и в текстах об опере XIX века факты истории литературы занимают не меньше места, чем собственно музыкально-исторические.
Впрочем, исследовательская мысль Марины Раку не забирается и в чисто философские феноменологические дебри, а цепко держится за факты, просто взгляд смещается с «истории гениев и шедевров» на сам нарратив истории музыки. Самое подходящее место этому методу — там, где традиция перерождается или вынуждена заново легитимировать себя (например, когда музыка становится на службу идеологии). В этот момент в силу вступают постулаты русской формальной школы, не потерявшие своей актуальности: происходит процесс приспособления, формирования одного канона из другого.
Работа этого же механизма описывается в тех статьях «Оперных штудий», которые посвящены романтической опере. Она предстает на страницах книги и ностальгически обращённой в прошлое (как в работах о Россини и Чайковском) или же на глазах следующего поколения превращающейся в наследие (как в статье о «Роберте-дьяволе»). Оперный гезамткунстверк каждый раз анализируется как нестабильный, переменчивый процесс взаимной апроприации музыки, драмы, художественной литературы и критики. При этом фокус, который в гуманитаристике уже давно сместился с автора на текст, постепенно переводится на слушателя/зрителя, главного героя этой книги. Почти в каждой работе идёт его поиск. И если XIX век в «Оперных штудиях» все время смотрит в прошлое, то режиссерская опера и вовсе не имеет выбора: «после конца» не остается ничего, кроме тоски по золотому веку, уже изрядно осквернённому интервенциями интерпретаторов.
***
Книга — с ее собственными претекстами — сама становится актом генетической критики, дискурсивным мостом от романтической историографии к современной рецептивистике. Каждый текст содержит в себе следы своей собственной истории. И наиболее традиционны здесь исследования о Россини, Чайковском и Мейербере, где автор опирается на надежную литературоведческую традицию установления скрытых или явных цитат (например, происхождения мотива баллады Томского из «Маленькой торжественной мессы» Россини).
Герменевтическая генеалогия метода работает также на производство новых смыслов: разворачивается реконструирование ранее невидимых сквозных исторических процессов (как в тезисе о преемственности советской оперы по отношению к grand opèra, в истории метаний советской власти вокруг академических театров, или в анализе неоконченной оперы Корчмарева). Итоговая концентрация идеи — в духе романтической критики — совершается с помощью метафор (как сравнение россиниевского певца с андерсеновским соловьем (с. 39) или аналогия между ветвящейся музыкальной формой у Вагнера и архитектурой Гауди (с. 170)). И здесь срабатывает второй слой методологии, структуралистский поиск универсальных оппозиций (как «природа и культура» или «свое и чужое») — подобная стратегия хорошо гармонирует с рецептивной.
***
Совсем иначе действует этот метод в статьях третьей части, в которых устанавливается связь между современными режиссёрскими стратегиями (определяемыми исключительно через пресловутые «пиджаки», но не через работу с фабулой, музыкальным временем, театральным пространством и т.д.) и появлением в театральном зале фантомного, предполагаемого (ибо не определяемого ни через какие конкретные факты) «зрителя-неофита» с узким и размытым горизонтом ожиданий. Здесь «имплицитный зритель» угадывается через тексты спектаклей, которые как бы срастаются в единую неразличимую массу «осовремененных» постановок. С одной стороны, в этих пассажах бросается в глаза вполне понятная невозможность «чистого взгляда» (по Бурдье) — с другой, отсутствие анализа конкретных случаев (в итоге в одном «пиджачном» ряду теоретически могут оказаться принципиально разные — и неназываемые — постановки, например, Кристофа Лоя и Питера Селларса). И критерии анализа и оценки то и дело заменяются педалированием экспертной точки зрения, сохранившейся от позитивистской традиции искусствоведения.
И здесь, вероятно, находится единственный камень преткновения для этого методологического альянса. Тема «распада ауры» (согласно Вальтеру Беньямину) штучного, уникального шедевра, которая проходит лейтмотивом через исследования оперы советской эпохи, сочетается в Оперных штудиях с верой в шедевры прошлого, а иногда и настоящего времени, в элитарность оперы как жанра и новоевропейской академической музыки как вида искусства.
А что же «имплицитный читатель» самой этой книги? Он вполне мыслим без веры в шедевр, но совершенно немыслим без веры в непрерывность и единую логику культурно-исторических процессов, которая сейчас ставится под вопрос критическими исследованиями неравенств. Вероятно, метод коллапсирует там, где рецепция не отфильтровалась в корпус легко находимых текстов (и возможно — благодаря массовой миграции обсуждений оперных спектаклей в социальные сети и Telegram — не отфильтруется уже никогда: современный зритель смотрит трансляции и пишет посты чаще, чем идёт в театр и публикует рецензии в специально отведённых для этого местах). Впрочем, это противоречие снимается, когда метод возвращается к своему началу, когда система координат и критериев ясна — к исследованию той истории оперы, которая закончилась навсегда.