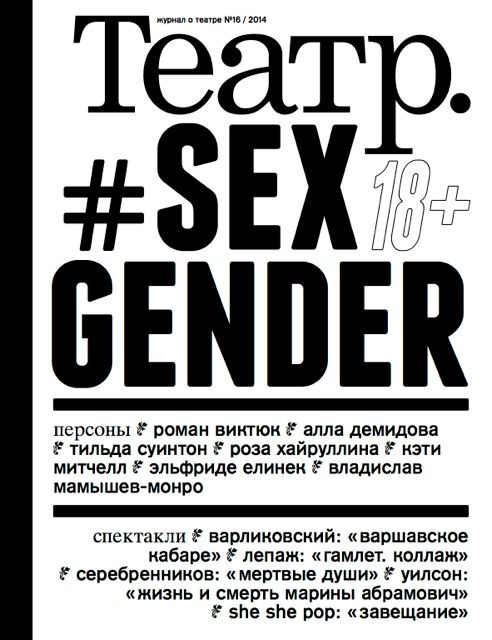Идея этого номера была в значительной степени порождена гомофобной истерией, которая стала вдруг нагнетаться в нашем обществе без видимых на то оснований, если, конечно, не считать основанием естественную потребность любого авторитарного режима в поиске врага. Но истерия была лишь импульсом, первотолчком…
Спорить с дураками бессмысленно. Спорить с агрессивными дураками противно. Оттолкнувшись от малоприятного гомофобного контекста, мы постарались по мере сил забыть о нем и разбирать тему гомо-, транс- и прочей нетривиальной сексуальности в искусстве так, словно гендерные исследования, как во всех цивилизованных странах, являются естественной частью нашего искусствоведения.
Нам было интересно понять, в какой момент гомосексуальная тема стала эксплицитной в литературе, театре, кино — ведь не только у Шекспира, но даже у Оскара Уайлда она еще всячески завуалирована и является зоной фривольных или стеснительных намеков. Открытая же рефлексия на эту тему очевидно привносит в искусство, в наше понимание любви и человеческих отношений новые обертоны. Она словно бы очищает понятие страсти, сразу же переводит его на иной, экзистенциальный уровень.
Едва ли не вся классическая любовная драматургия была посвящена преодолению расовых, социальных и прочих барьеров, которые воздвигала перед человеком традиция. Во второй половине ХХ века в западном мире прежние барьеры оказались в значительной степени разрушены. И на первый план выдвинулись сами свойства страсти. Скажем точнее: ее созидательные и разрушительные свойства.
Это утверждение справедливо и применительно к современным произведениям о любви гетеросексуальной: достаточно вспомнить, как в спектакле Михаэля Тальхаймера «Эмилия Галотти» тираноборческий пафос пьесы Лессинга, в которой сословное неравенство главных героев есть залог конфликта и пружина действия, уступал место любовному томлению, уравнивающему в правах (а точнее, в бесправии и бессилии) всех героев независимо от их места в общественной иерархии — и принца, и находящуюся на грани самоубийства его экс-возлюбленную Орсину, и свободолюбивых отца и дочь Галотти, и даже интригана Маринелли.
Но в контексте «гомосексуальной», «трансгрессивной» драматургии — в творчестве Жана Жене, Бернар-Мари Кольтеса, Жан-Люка Лагарса, Марка Равенхилла или примкнувшей к ним Сары Кейн — при всей разности и неравнозначности этих авторов возгонка страсти, очищенной от социальных условностей и словно бы предоставленной самой себе, происходит едва ли не впервые. Во всяком случае, она впервые исследуется с такой степенью откровенности.
И это исследование раскрывает новые аспекты любви, самого земного и плотского и парадоксальным образом самого идеального и возвышенного чувства. Что лежит в основе этого парадокса? Не то ли смутное понимание, что, любя человека и прощая ему его недостатки, мы словно бы прозреваем в другом его божественное измерение, некий спрятанный за завесой телесности и социальности «эйдос»? И не оттого ли любовь не утрачивает своего идеального измерения, даже если объект любви в своих внешних, земных проявлениях оставляет желать лучшего?
«Мы (в России. — МД) погрязли сейчас в бесконечных политических дискуссиях о гомосексуализме: ну что поделаешь, „недоделанное“, больное общество, которое даже чисто философские проблемы ставит в какой-то ублюдочный контекст. А дело ведь не в том, что гомосексуалы „ровно так же, как и прочие, достойны простого человеческого счастья“, что это лишь одна из возможных „природных вариаций“, что социально они „ничем не хуже“. Просто гомосексуальные отношения, как любовь, которая dares not speak its name, — это еще и любовь в некотором химически очищенном виде. <…> Тут — как в лабораторной пробирке — виден на просвет тонкий абрис самой страсти» — так напишет Наталья Исаева в статье «Французский опыт: одиночество трансгрессии».
Впрочем, гомосексуальная тема в искусстве — лишь одна из тем номера. Не менее, а может, и более важен в нем разговор о том, как в современном театре, а заодно и в жизни вообще трансформируется тема гендера.
Протейская природа сценического искусства испокон веков предполагала преодоление гендерных границ. Мужчины играли женские роли начиная с античности. Контртеноры исполняли женские партии вплоть до эпохи бельканто. И невозможно представить себе шекспировский театр без женоподобных мальчиков, играющих юных дев и пожилых матрон.
Но в разные эпохи эти гендерные перевертыши наполнены разным художественным смыслом. Исполнение женских ролей мужчинами в античности, в елизаветинском театре, на протяжении веков в опере — это не более чем дань традиции, не несущая в себе никакого эпатажа, лишь по-своему преломляющая особенности традиционного маскулинного общества.
Сара Бернар, вообще склонная к оригинальничанью (великая актриса летала в небо на аэростате Жиффара) и обросшая легендами (поговаривали, что она спала в гробу и была влюблена в скелет), выходя на сцену в роли Вертера, Лоренцаччо или Гамлета, конечно же, рассчитывала на эпатаж. Орленка из пьесы Эдмона Ростана она сыграла и вовсе в 56 лет, разрушая на глазах изумленной публики все возможные стереотипы. Она не продолжала традицию, а бесстрашно ломала ее. В этом недвусмысленном примере сознательной гендерной трансгрессии можно увидеть и предвестие феминизма ХХ века, и плоды женской эмансипации девятнадцатого.
В начале XXI века для Тильды Суинтон, перевоплощающейся в двуполого Орландо, или для Розы Хайруллиной, которая в спектаклях Константина Богомолова («Лир. Комедия», «Карамазовы») играет мужские роли, как бы и неважен собственный пол — он просто исчезает, перестает иметь значение.
Роли Суинтон и Хайруллиной — уже не отстаивание женского равноправия, не расширение границ гендера, а как бы территория мерцающего пола.
И это очень важный поворот темы. В современном искусстве — так мне лично видится ситуация — на первый план выступает сама человеческая личность. То ее нередуцируемое ядро, которое существует вне социально, расово или гендерно детерминированных границ.
Чем дальше будет освобождаться человек от пут традиции, социальных ритуалов и реалий обыденного существования, тем в большей степени все в нем — одежда, внешность, образ жизни — станет объектом приложения творческих сил. В сущности, наш разговор о гомо-, транс- и прочей нетривиальной сексуальности в искусстве — это в первую очередь разговор о свободе человеческой личности, о свободе выбирать свои социальные и гендерные роли. Человек, творящий себя из самого себя, — это, по всей видимости, и есть смысл искусства будущего.