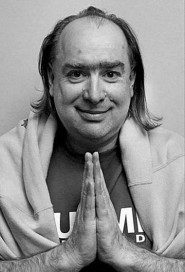В конце 2012 года в Карельской гостиной петербургского Дома актера состоялась конференция «Станиславский: за и против» (модератор — Марина Давыдова). Речь на ней шла не столько о Станиславском вообще, сколько о его системе. Дискуссия была жаркой, многолюдной и длилась четыре с лишним часа. Журнал Театр. печатает ее с некоторыми сокращениями, постаравшись, однако, бережно сохранить слова принявших в ней участие режиссеров — Константина Богомолова, Камы Гинкаса, Андрея Могучего, Люка Персеваля, Тимофея Кулябина, Андрея Бартенева и Андрея Жолдака.
МД: Юбилейные конференции имеют обыкновение превращаться в разговоры ни о чем. Поэтому я призываю выступающих: давайте не будем многословно рассказывать, каким великим был К. С. Это более или менее для всех очевидно. Давайте постараемся ответить на самый важный вопрос, что такое для вас лично его знаменитая Система. И что такое она в принципе. Готовясь к нашей дискуссии, я начала перечитывать литературу по этой, весьма запутанной теме и, признаться, еще больше запуталась. Я столкнулась с множеством противоречивых дефиниций. С одной стороны, говорится, что Система — это нечто вроде нотной грамоты для актера. С другой — что она описывает объективные законы пребывания артиста на сцене. С третьей — что это свод предписаний, позволяющих артисту войти в некое «правильное» состояние. С четвертой — что это способ самопознания человека, играющего на сцене, некий аналог хатха-йоги, которой Станиславский был увлечен и которую прозорливо разглядел в его поисках Гордон Крэг. «Нотная грамота», объективные законы, способ самопознания… Неужели нечто может быть одним, другим, третьим, четвертым и т. д. одновременно? Это первый вопрос, который меня занимает. И сразу же второй.
Инна Натановна Соловьева в своем вызвавшем бурный резонанс интервью на OpenSpace.ru говорит, что Станиславский, в отличие от многих других выдающихся артистов, очень боялся черного портала сцены. И разрабатывать Систему он начал именно для того, чтобы преодолеть свой страх перед зрительным залом. Система — это в первую очередь описание уникального опыта одного великого артиста. И именно как описание личного опыта Система может пригодиться (или не пригодиться) лицедею. Но если она была придумана для артистов, чтобы помочь им входить в творческое состояние, то почему и зачем ее так упорно преподают режиссерам? Для чего она им? И нужна ли она сегодня вообще? (Константину Богомолову) Костя, давай сначала ответишь ты. Зачем тебе Система?
КБ: Скажу честно: я не знаю зачем. Я учился у Андрея Александровича Гончарова и не помню, чтобы нам кто-то велел прочесть Станиславского (хотя его именем все время оперировали).
МД: Но ты ведь прочитал?
КБ: Я читал беспорядочно. Читал, не направляемый кем-то из педагогов. Для меня учение Станиславского несет прежде всего этический смысл. Он словно князь Мышкин, пришедший в пространство Петербурга, если понимать под Петербургом театр. Станиславский отличался неспокойным, странным, нервным ощущением жизни. Ощущением, что все вокруг не так устроено. И оно постоянно претворялось у него в попытки вырваться из рутины, преодолеть ложность и искусственность отношений внутри театра.
Для меня его опыт не система. Просто был такой странный человек с необычным взглядом на театр, болезненно наблюдавший за собой. Я глубоко убежден, что в профессию — актерскую и режиссерскую — приходят психически нездоровые люди. И стараются направить свое нездоровье в креативное русло. И в текстах Станиславского я всегда наблюдал как бы запись, фиксацию течения болезни. Желание выйти на сцену — как непреодолимая психическая тяга; понимание своей эгоистичности, «эксгибиционизма», каких-то психических маний — и вечная борьба со всем этим, бесконечная попытка это преодолеть. К учению Станиславского я во многом отношусь как к интересной врачебной практике. Когда режиссуру постигаешь практически, то в чем-то соглашаешься со Станиславским, а в чем-то нет. И в некоторой степени проходишь тот же путь, что и он. Но бессмысленно преподносить его опыт как некую систему и уж тем более как свод правил.
КГ: Мне ужасно понравилось то, что сейчас было сказано. Да, актерская профессия, как и режиссерская, болезненная: знаю по себе. Актер — личность парадоксальная и патологическая. Если сейчас предложить каждому из вас — сидящих в зале — раздеться, вы не разденетесь. Многие будут сомневаться: а хорошо ли мое тело? А артист жаждет этого, жаждет рассказать про самые больные и сомнительные явления, в нем существующие. Он благодарен автору и режиссеру, если им удается помочь ему раздеться — максимально бесстрашно.
МД: Но это вы про хорошего артиста говорите. А плохой просто хочет понравиться, по-моему, ничего особенно не обнажая.
КГ: Да, конечно. Ординарный артист закрывает сомнительные места своей души и начинает демонстрировать свои лучшие, как он считает, качества. Это отвратительно, Станиславский называл это каботинством. Артист в таком случае как будто говорит: посмотрите, какая у меня красивая грудь, какая походка, я вообще актер интеллектуальный, выучивший то-то и то-то. И это тоже проявление патологии, но другого сорта. Система помогает артисту — как больному человеку — сделать то, к чему он призван. Актерские качества, называемые эксгибиционизмом, все-таки патология. А нужно эту аномалию превратить в искусство, доставляющее удовольствие зрителям. То есть вывести из данного болезненного проявления какой-то смысл: психологический, социальный, эстетический, философский… Конечно, Система существует и постигается в течение всей жизни. Ведь Станиславский ничего не выдумал, он наблюдал за собой, а также за великими артистами, за тем же Шаляпиным. И противно бывает слушать ленивых и незаинтересованных, которые не пытались на личном опыте проверить достижения Станиславского. Вы спрашиваете, зачем Система режиссеру. Константин Сергеевич обладал знаниями о человеке.
Это сравнимо с анатомией. Как можно лезть ножом в тело, не зная анатомии? Как, по большому счету, режиссер может не знать физиологии и психологии артиста? Ведь артист беззащитен и перед режиссером, и перед публикой, он ужасно боится, что не понравится, будет неинтересен, покажется уродливым. Станиславский попытался помочь актеру найти выход из положения. Нашел ли он все? Во всем ли разобрался? Возможно, нет. А разве мы разобрались в законах природы? Разве кто-то ответил на вопрос, почему мы существуем? А что такое космос? Что такое черные дыры?
Если актер и может примерить на себя опыт Станиславского, то это будет… как по-английски? Flexible, да! Опыт этот подвижный, изменяется вместе со временем и вместе с театром. И применение его зависит в том числе от индивидуальности актера, от того, что актеру необходимо в конкретный момент. Никто не учил Брука или Мейерхольда. Правда, Мейерхольд, мерзавец, первое время копировал Станиславского.
Как говорят начинающим пейзажистам? — «Вот Куинджи: копируй и учись, а потом ищи свой путь». Константин Богомолов рассказал про своего учителя Гончарова, который не любил употреблять выражения Станиславского. Мой учитель Георгий Александрович Товстоногов тоже не любил. Эти понятия и выражения замусолены, никто не слышит их в истинном значении. Очень мне понравилось сравнение Станиславского с князем Мышкиным. Да, это был безумец, почти Христос, решивший принести Царство Божие сюда.
МД: То есть система Станиславского — это такое квазирелигиозное учение?
КГ: Какая разница, как это называть? Вы — театроведы, вам это важно, а мне нет.
МД: Просто правильно назвать — очень часто значит понять.
КГ: Называйте, как хотите. Хоть глупостью Станиславского, которая помогает жить. Многие глупости помогают нам жить.
КБ: Мы должны, мне кажется, разделять индивидуальный опыт и его сакрализацию. Превращение Станиславского в икону — дело «апостолов», а не его самого. В этом вечный ужас театра: некогда новый опыт, давший импульс для развития, костенеет.
Пребывание в сценическом пространстве вызывает у человека определенные психофизические процессы. Ведь на артисте концентрируется тысяча взглядов, он не может раствориться и стать незаметным. Станиславский стремился помочь артисту расслабленно и свободно существовать в этом пространстве: в любых стилях, жанрах, в любых режиссерских вариациях — психологических и антипсихологических. Кому-то дано от Бога оставаться на сцене таким же свободным, как вне сцены. А кому-то не дано — для него и существуют различные техники. Одному больше подходит опыт Станиславского, а другому — буддистские упражнения.
МД: Я возвращаюсь к одному из своих вопросов. Про артистов мне более или менее понятно. Вот человеку нужно войти в сценическое пространство: нужно правильно разместить в нем свое тело, нужно совладать со своей психофизикой — в помощь ему существует Система. Но как это соотнести с утверждением, что Станиславский начал описывать некую анатомию, которую нужно знать режиссеру, чтобы не повредить артисту? Анатомия — наука, ее, действительно, необходимо изучать. Невозможно сказать: «Я сейчас сделаю операцию, не зная анатомии». Но не зная Систему, можно поставить спектакль. И даже гениально поставить.
КБ: Марин, не утрируй понятие анатомии. Одни режиссеры плотно работают с артистами, проводят различные тренинги и так далее. А другие не влезают в актерскую кухню, в сугубо технологические вопросы. Я не говорю, что режиссеру не надо знать некие основы. Знать их необходимо. Но из любого правила есть исключение. Беда в том, что идеализация Системы противоречит новым условиям жизни: когда индивидуальный опыт становится гораздо важнее правил. Правила в искусстве сегодня отсутствуют, в нем возможно все. Я лично вообще считаю, что чтобы заниматься театром, необязательно иметь театральное образование.
МД: Да, и неизбежно возникает вопрос: как быть со сводом правил в ситуации, когда правила на наших глазах меняются? Современные режиссеры зачастую ставят спектакли с непрофессиональными артистами. Вспомним проекты «Рими- ни Протокол»… А у Хайнера Геббельса в «Вещи Штифтера» на сцене отсутствуют не то что артисты, а просто живые люди. Слово «театр» описывает сейчас не совсем ту реальность, которую описывало двадцать лет назад. А уж про сто лет я и не говорю. Насколько Система актуальна в этой очень изменившейся реальности? Я хочу спросить об этом Андрея Могучего.
AM: Я пришел в режиссуру из другой профессии. Мое первое образование — аэрокосмическое приборостроение. Стало быть, я привык к наличию критериев. Придя в режиссуру, я был несколько ошарашен их отсутствием, пытался эти критерии обнаружить и занимаюсь этим доныне. Без этого мне сложно двигаться дальше. Костя верно заметил: Система должна помочь артисту естественно существовать в искусственно созданных условиях. К этому сводятся все методы Станиславского. Кстати, а кто впервые применил слово «система» к Станиславскому?
МД: Станиславский писал: «Моя так называемая система». То есть как бы не им самим называемая.
AM: Ну так вот мне ближе понятие «методология». Внутри методологии существует множество техник как средств достижения целей. И эти техники могут даже исключать друг друга. В молодости я с ненавистью выбросил тома Станиславского: «Нет, мне подходит только Мейерхольд!» Я тогда мало что понимал. А позже, став умнее, я открывал книгу Станиславского и удивлялся: надо же, а я сам дошел до этого! Как сказал Кама Миронович, профессия постигается в течение всей жизни. В книгах Станиславского как бы заложена таблица Менделеева. Он открыл законы…
МД: Подожди, Андрей. Ну вот опять же… Ты можешь вставить в таблицу Менделеева новый элемент, но не можешь исключить уже открытый элемент. А сам Станиславский бесконечно включал и исключал из нее что-то, не говоря уже про его последователей.
AM: Что он исключал? Приведи пример.
МД: Ну как… Вот в конце жизни он начал работать над методом физических действий, про который говорил, что этот новый этап работы над Системой дезавуирует все, что было прежде.
AM:Даже если так говорил Станиславский, это еще не значит, что так было по факту. В отличие от точных наук, искусство связано с интуицией, с психологией, и соотносить его с наукой не всегда возможно. Конечно, есть такие направления психологии, как гештальттерапия, транзакционный анализ и многое другое, о чем артисту полезно читать. Театр имеет дело с психологией в любом случае: называй его сюрреалистическим, абсурдистским или каким угодно еще. Уже потому, что актер, как и зритель, человек, а человек вне психологии не существует. Проблема зрителя имеет особую специфику в случае с Гротовским. Хотя Гротовский известен как один из апологетов Станиславского. И ясно почему: понятия «персона» и «персонаж» он сблизил настолько, что почти размыл грань между ними, и его искусство стали называть не-театром. Станиславский дал искусству множество импульсов, даже противоречащих один другому. Перед смертью он назвал своим единственным учеником Мейерхольда. Ничего себе!
МД: Да, а двоим даже выдал сертификаты, подтверждающие их право преподавать: Вахтангову и Сулержицкому. Можно ли представить себе сертификат на знание нотной грамоты?
AM:Если нет противоречий, нет театра. Сегодня уже двое из нашей профессии назвали режиссуру и актерство болезнью. Уточню: это шизофрения, раздвоение личности. Человек на сцене постоянно пребывает в двойственном состоянии: с одной стороны — Я, с другой — не-Я; с одной стороны — импровизация, с другой — композиция. Если нет этой двойственности, нет и театра, или он неинтересен. Станиславский раздвинул привычные границы. Действительно, его опыт ближе к сакральному учению, где каждый может найти для себя много путей, пунктов и мотиваций.
КГ: Марина, можно я иногда буду комментировать? Я не очень понимаю, слышит ли выступающих аудитория, чувствует ли температуру, понимает ли суть того, что сказали Костя и Андрей. Андрей сказал: «Естественное поведение в неестественных условиях». У К. С. это называется органическое существование. Причем существование не обязательно в бытовых, психологических, жизненных обстоятельствах.
Тот, кто учился на актера, знает, что на первом курсе учат играть животных. А какая у них психология? Разве она есть? Учат играть кубы, шары, стулья и столы. А какова психология стола? Тем не менее все это играется, и порой весьма интересно. Вы, Марина, говорите, что сегодня на сцену часто выходят непрофессионалы. Но важно, как и для каких целей режиссер использовал их органику.
Моему спектаклю «К. И. из „Преступления“» уже восемнадцать лет. За это время сменилось восемь поколений ребят, играющих детей Катерины Ивановны — Оксаны Мысиной. Меня замучили вопросом: как дети так хорошо играют? Но ничего они не играют! Просто в спектакле использована их детская природа. Катерина Ивановна выставляет ребятишек как аргумент, чтобы ее пожалели. Они как аргумент и сидят перед зрителями. Когда Катерина Ивановна выступает перед публикой слишком нагло, они хватают ее за пальто: «Мама, не надо!» Когда мы впервые показали спектакль в Ленинграде, кто-то спросил юного артиста, что он испытывает во время действия? И мальчик признался: когда артистка Мысина играет хорошо, он радуется, а когда ей что-то не удается — огорчается. А также мальчик смотрит, кто из зрителей плачет, а кто смеется. Это просто дети. Их важно поставить в органические для них обстоятельства.
МД: Простите, я знаю, что присутствующий здесь Люк Персеваль должен скоро уезжать в аэропорт, поэтому, если не вы не возражаете, я предоставлю сейчас слово ему и задам естественный вопрос: скажите, насколько понятие «система Станиславского» присутствовало в вашей театральной жизни? Насколько оно вообще актуально для ваших палестин?
ЛП: Лично я не верю, что какой-то театральный метод может выжить без актера. Я был актером восемь лет. В определенный момент мое терпение лопнуло: надоели режиссеры, указывавшие, как я должен вести себя на сцене, как должен использовать свое тело и что чувствовать. Ища актерской свободы, я постепенно пришел к режиссуре. Уже будучи режиссером, я интересовался у артистов, почему они пришли в эту профессию, и многие назвали причиной своего прихода в театр стыд. Вернее, желание этот стыд преодолеть. И мне это понятно: в детстве я в определенных ситуациях делал все возможное, чтобы скрыться с глаз долой. Чувство страха и стыда касается не только нашей профессии. Я был почти профессионалом в футболе и помню, как перед каждым матчем одиннадцать игроков — здоровых парней — сидели и тряслись. Страх — часть нашей культуры. Но есть возможность им манипулировать. Самое ценное для меня в Станиславском — попытка решить эту проблему.
Мое детство не было связано с театром. И когда я впервые пришел в него, мне советовали прочитать Станиславского — «Мою жизнь в искусстве». Поразило влияние, которое испытали на себе те, кого я считаю своими учителями. Читая Станиславского, я осознавал, что его методы просты, практичны и говорят мне, человеку ниоткуда, о том же, что я сам думаю и чувствую. Я — совсем молодой — уже понимал, что надо концентрировать внимание, оставаться в состоянии включенного воображения и так далее.
Позже мне предложили преподавать. Практикуя и пытаясь дойти до каких-то вещей, я оказался в состоянии, когда готов был сжечь книги Станиславского. В тот период я осознал, каким грузом он является для студентов. В чем виделась уязвимость его методики? Вот мой персонаж находится в определенных предлагаемых обстоятельствах и должен одновременно думать об умершей матери. Сосредотачиваясь на своих ощущениях, я как актер не вижу партнера. Теряются взаимосвязи, и в этом для меня проблема Системы. Она слишком эгоцентрична и не создает пространства для взаимодействия. Нет святой непоколебимой системы. На сцене стоит живой человек. Вернее, как человеку на сцене стать живым? Режиссеры могут уловить миг, когда актер забывает о контроле над собой, словно становясь наивным ребенком. Но актеры не дети и прекрасно понимают, что находятся на сцене. Уча студентов, я понял, что, когда мы адаптируем Систему, работаем с ней творчески, она становится более гибкой и энергичной. Еще, по-моему, неправильно, если пытаются учить системе Станиславского, не понимая, кем был Станиславский. Это как разговор о Христе без понимания того, кем был Христос. И слова Станиславского также надо понимать в определенном контексте: тогда прояснится, что он подразумевал.
Я с удивлением узнал, что на Станиславского оказала влияние хатха-йога. В этом для меня тоже противоречие: как можно учить йоге, только читая о ней, не практикуя? Конечно, Станиславский, как всякий большой художник, был в постоянном поиске — искал средства достижения личной свободы, и его опыт, естественно, содержит спорные аспекты. Станиславский пытался быть правдивым, как сама жизнь. Но если следовать этому вне критичного взгляда, многое упустишь. В том числе контакт со зрителем.
КГ: Простите, но учение Станиславского — это в первую очередь взаимодействие с партнером. Не видеть партнера — значит не быть на сцене. По-моему, хороший артист — тот, у кого партнер играет хорошо: один актер провоцирует другого.
МД: Станиславский, кстати, сам пишет, что когда видит нарушение баланса в актерской игре, когда актер сосредотачивается только на себе (или на партнере, забывая о зрителе), это производит ужасное впечатление.
КГ: Концентрация для Станиславского — способ избавиться от страха. Но для чего? Не для того ведь, чтобы, забыв о страхе, забыть и о партнере со зрителем. Актер, по Станиславскому, должен воздействовать и на зал, и на партнеров. Это и значит действовать в полном смысле слова.
МД: Кама Миронович, я вижу, вы уже собираетесь уходить? Можно напоследок вопрос? Нужно ли, как вам кажется, сегодня преподавать систему Станиславского? Не самостоятельно ее изучать, а именно преподавать! Это ведь разные вещи.
КГ: Можно и нужно. Только поменьше слов «зерно», «задача», «сверхзадача», всей этой догматической чуши. Все это само собой постигается на практике. Вы, Марина, теоретик, вам нужно формулировать. А нам это необязательно.
КБ: Марина, ты все время говоришь о противоречии внутри текстов Станиславского, о его бесконечном отказе от предыдущего опыта. Это принципиально важная позиция не только Системы, но и некого жизненного текста Станиславского. И то, что говорил Люк, этому соответствует. Любой режиссер проходит этап, когда с артистами работаешь, работаешь, а потом говоришь: «Ребята, забудьте, не играйте всего этого». Станиславский для меня грандиозен постоянным отказом от накопленного опыта. Что сложно: на обретение знаний тратятся колоссальные жизненные и творческие силы. Станиславский был способен отказаться от чего-либо ради обновления. И так существует всякий творческий человек, это единственная форма развития нормальной, пульсирующей жизни. Как преподавать Систему? Если я и посоветую артисту читать Станиславского, то только для того, чтобы у артиста был пример человека, умевшего отрекаться от собственных открытий. Для Станиславского театр был творчеством, а не формой развлечения. Спектакли, репетиции, беседы — как бесконечный творческий процесс, невозможный без отрицания накопленного опыта. И так вплоть до смерти, до момента, когда умирающий художник говорит: «Оказалось, вся моя творческая жизнь бессмысленна, выкиньте все, что я написал».
(После перерыва.)
МД: В перерыве я разговаривала с Андреем Могучим, и мне сейчас хотелось бы воспроизвести часть нашего диалога. Я сказала Андрею, что искусство артиста принципиально отличается от искусства поэта, живописца, архитектора. Представьте себе реакцию поэта или прозаика, которому сказали бы, что он должен находиться в творческом состоянии с 19:00 до 21:00. А на сцене человек должен быть мобилизован, должен уметь вводить себя в творческое состояние. В этом смысле вопрос об актерской игре перестает быть исключительно эстетическим. Творчество актера существует на пересечении эстетики, психологии и даже физиологии. И то, что создано Станиславским, по всей видимости, не только эстетическая система. Это комплекс методов, касающихся разных областей. Когда же мы смотрим на Систему в сугубо эстетическом контексте, она, действительно, может вызвать раздражение, отторжение и желание сказать: «Сколько можно, давайте сбросим это с парохода современности». Но как только контекст расширяется, видны, как сказал Андрей, объективные законы. И режиссер, который не обращается к трудам Станиславского, так или иначе, приходит в своих поисках к этим законам. Вот, собственно, часть нашего диалога с Могучим. А теперь вернемся к вопросу: что же сегодня происходит с Системой в наших театральных вузах? Как ее преподают? Ведь ее смысл — помочь артисту стать лучше, чем он есть, творчески раскрепоститься. Но я никакой корреляции между преподаванием (или не преподаванием) Системы в театральных вузах и наличием в стране хороших артистов, честно говоря, не вижу. Наоборот, вижу на наших сценах очень много «хорошо обученных» плохих артистов. Иногда мне кажется, что они как раз потому и играют плохо (фальшиво, с таким пошловатым форсажем), что их долго в институтах чему-то там учили. Андрей, что ты на это скажешь?
AM: В Москве есть замечательный режиссер и педагог Марина Разбежкина. Мне кажется, сказанное ею нужно услышать всем — вне зависимости от того, занимаемся мы документальным или игровым кино, театром или телевидением. Артист, по мнению Разбежкиной, инстинктивно отвечает на запросы режиссера. Можно добавить: а также публики и общества. Нынешнее общество калечит артиста, которому приходится подменять подлинность чем-то другим. Какое количество артистов, учившихся у хороших мастеров, но нигде не занятых! А почему? На них нет адекватного запроса. Проблема эта — также часть нашей профессии, хотя и лежит в области скорее психологии или социологии; и в контексте российской действительности она обостряется. У меня ощущение, что сегодня существует запрос на вранье, обман, имитацию. И артист это чувствует — и становится звездой, а профессионал — воспитанник настоящего мастера — не востребован современным театром. Я не уверен, что сегодня Евстигнеев и Леонов были бы в центре внимания.
ТК: Но есть и другая сторона проблемы. Я учился в ГИТИСе у Олега Львовича Кудряшова. У нас, кстати, очень редко упоминали Станиславского, чаще звучали другие имена. Года полтора я преподавал актерское мастерство в Новосибирском театральном институте. Но после одного случая на кафедре я перестал приходить в этот институт. На экзамене по мастерству одна студентка показала потрясающую сценку. Встала в угол и стояла минут двадцать: как будто хотела выйти пописать, но нельзя было. Педагоги стали спрашивать: «А какие предлагаемые обстоятельства?» — Я отвечаю: «Ну как… Вот есть девушка, а есть мы все — как некая аудитория, которую она стесняется». — Вопросы продолжились: «А мы кто? А мы где? А кто эта девочка? Почему у нее один чулок синий, а другой красный? Она что, неряшлива? Кто ее родители?» — Мне пришлось спросить: «Подождите, а какая разница? Вы этими вопросами путаете и нас, и себя». И тут выступила пожилая преподавательница: «Знаете, что такое предлагаемые обстоятельства?» — а дальше минуты три непрерывного текста. Как я потом понял, это была цитата из Станиславского, слово в слово. «Позвольте, — возразил я, — но это написано сто лет назад. Вам не кажется, что не мешает по-новому осмыслить это?» Дама ответила отрицательно. То есть Станиславский стал догмой. Также я предлагал изменить строгую логику учебной программы. Например, по программе, сначала — память физических действий, а потом — этюды на животных. Я понимал, что с этими студентами надо как-то иначе. Им это не органично, с ними такая стандартная схема не работает. Но оказалось, ничего нельзя менять! А потом мы удивляемся, почему на сцену выходят актеры, с которыми невозможно общаться, мыслящие очень старой — навязанной — системой координат. Самое страшное, что это молодые актеры, и мне кажется, девяносто процентов людей, выходящих из театральных институтов, научены какой-то мертвой системе.
АБ: Я окончил Краснодарский художественный институт, где меня четыре года буквально насиловали системой Станиславского. В результате, когда мы по программе подошли к Чехову, я сказал: «Я не могу его так играть. Для меня Чехов сюрреалистический автор». И за это был бит в этом учреждении. И окончив институт, я быстро отошел от театра и вернулся в изобразительное искусство. А потом стал искать путь, как соединить полученные знания (которые невозможно было отбросить) с изобразительным искусством. Я стал делать хеппенинги и перформансы, это открывает новые возможности. Можно взять человека с улицы, увидев в нем нечто уникальное, и поместить его в пространство чистоты (как белоснежное пространство в моих «Трех сестрах»), и это «нечто» будет сверкать каким-то невидимым светом. Последние пять лет я преподаю в норвежской Театральной академии. Это своего рода лаборатория, она патронируется Робертом Уилсоном и другими выдающимися деятелями искусства. Это зона вне Станиславского, и находиться там мне в удовольствие. Впрочем, отсутствие авторитета системы в этой академии касается не только Станиславского, но и всех других великих режиссеров и систем. Достоинство школы в том, что там стараются не превращать студентов в носителей какого-то одного знания. Опыт в норвежской академии подвел меня к мысли, что для каждого нового студента ты должен сочинить новую, уникальную систему, нет одного закона на всех.
КБ: Система, как было замечено, есть индивидуальный опыт. Вот я прихожу смотреть студентов, например Григория Козлова, и восхищаюсь: какие замечательные артисты! Как хотелось бы работать с ними! По Системе ли учит Козлов? Думаю, каждый преподает в соответствии со своим индивидуальным опытом. В ГИТИСе всегда считалось счастьем работать с учениками Фоменко, Захарова, Гончарова. И в то же время есть мастерские настолько безликие… А там преподают по некой системе. В общем, упражнения действенны только в сочетании с личностью мастера.
МД: Согласна: только в сочетании с яркой творческой индивидуальностью некие объективные законы, описанные в частности Станиславским, работают продуктивно. Но у нас огромное количество вузов и, соответственно, огромное количество педагогов. Они не могут все быть яркими индивидуальностями. Однако в нашей традиции даже у совершенно ничем незамечательного Пупкина как бы есть моральное право на преподавание: я штудировал Систему, говорит он сам себе, значит, я знаю объективные законы, значит, я говорю и преподаю, как право имеющий. Вред Системы в российском (и не только российском) контексте состоит для меня как раз в том, что она дает право любому Пупкину именовать себя педагогом. Он и многие вокруг него уверены, что они являются носителями неких объективных знаний.
AM: Важно взглянуть на Станиславского не с эстетических позиций, а как на человека, которого постигла, подобно Горькому, участь канонизации. Что, конечно, в сознании многих обездвижило какие-то положения его учения. Но положения эти, в том числе касающиеся работы с психофизическим аппаратом артиста, универсальны. Один режиссер разбирается в этом больше, другой меньше. Тот же Люк Персеваль может отрицать какие-то свои корни и связи со Станиславским или Михаилом Чеховым, имея при этом непосредственное отношение к ним. Думаю, амбициозность — как утверждение собственного авторства — обязательна для всякого художника: «То, что я сделал, — мое открытие, мой метод!» Но если задаться целью и проанализировать свою работу, выяснится, что ты не начинал с чистого листа. Безусловно, в творческом процессе крайне важен момент импульсивного, хаотичного движения. Но обязателен и момент анализа того, что ты осуществил.
МД: А мне кажется фразу «это мой метод» можно понимать по-разному. «Это мой метод, и никому, кроме меня, он не пригодится» — можно ведь и так. И это тоже будет верно. А вот утверждение «это мой метод, и он всем окажется полезен» меня заранее пугает, независимо от того, кто именно произносит эти слова.
AM: Но в Америке, например, свободно пользуются теми же открытиями Станиславского. И в качестве результата мы получаем прекрасных голливудских артистов.
МД: Да, прекрасных голливудских артистов и совершенно убогий театр. Вот что интересно. Кстати, именно в Америку (не в Бельгию и не в Польшу) едут преподавать эту самую Систему. А это уже симптоматично. В Германию наши носители сакрального знания не суются. Там сильный театр. И безымянные носители «сакрального» знания там никому не нужны. Система сейчас, действительно, куда продуктивнее работает в контексте мейнстримного кино, чем современного театра. И об этом, как мне кажется, имеет смысл написать специальное исследование…
(В аудиторию входит запыхавшийся Андрей Жолдак.)
АЖ: Извините за опоздание: у меня только что закончилась тяжелейшая репетиция «Евгения Онегина» в Михайловском театре. Я хочу прочитать вам пункты из лекции, которую я готовил год назад для Стокгольма, когда репетировал в Городском театре Уппсалы «Мефисто» по Клаусу Манну. Лекция эта, отражающая мое понимание театра, по некоторым причинам не состоялась; впрочем, позже я прочитал ее в Македонии во время фестиваля в Скопье. Но в качестве прелюдии расскажу вам сон: он объяснит связь этой лекции со Станиславским. Я из тех художников, которые записывают сны. Это был ужасный сон, просто фильм ужасов а-ля Хичкок или Тарантино. Во сне я понимал, что я охотник, накачанный борец, такой серьезный мужчина, к тому же грязный и голодный, и я путешествую по ночному лесу с ножом. Вдруг вижу: огонек. А это уютный финский домик (я ведь последнее время в Финляндии много репетировал). Заглядываю в окно — там сидят Чехов Антон Павлович и Станиславский. Причем Станиславский последнего периода жизни, напоминающий Ленина в Горках. Вхожу в дом, Чехова почему-то уже нет. Бергмановская пауза. Подсаживаюсь к Станиславскому и… начинаю ломать ему пальцы, допытываясь: «В чем ваша система?! В чем ваш секрет?!» Из кухни прибегает Книппер — в костюме той эпохи (этакий мхатовский стиль). Я волочу ее на кухню, связываю, сую кляп в рот — сон-то современный — и продолжаю мучить Станиславского до тех пор, пока не убиваю его. И в ужасе просыпаюсь.
И я вам так скажу. Какие-то понятия и принципы Системы — такие как метод физических действий, исходное событие и кульминация — для меня спасательный круг. Но, по-моему, сначала надо понять Систему, а потом… все равно уничтожить ее.
А вот, собственно, и та лекция, которую я написал под влиянием Станиславского. Быстро читаю по пунктам…
(Далее Андрей Жолдак читает весьма длинный доклад на тему «Как убить плохого артиста». После его окончания впечатленные участники дискуссии оказываются уже не в силах продолжить дебаты. Дискуссия завершается.)